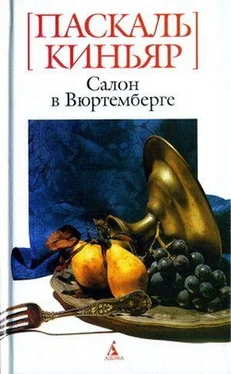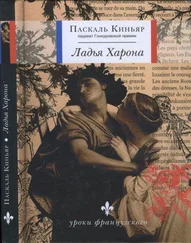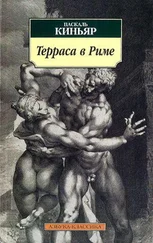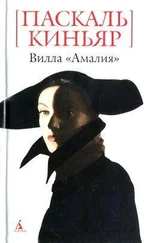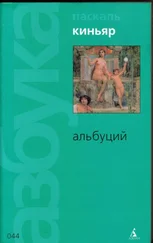Изабель Сенесе не терпелось завладеть комнатой-кладовой, потому что там была маленькая раковина в стенной нише. Она хотела, чтобы Флоран уговорил мадемуазель Обье уступить ей это помещение, где намеревалась устроить дополнительную кухоньку для стряпни в те выходные дни, когда они с Дельфиной приезжали сюда; в ресторанах девочка нервировала ее своими шалостями, дурачась и изображая то реактивный самолет, то клоуна, то собаку, воющую на луну, особенно по пятницам вечером, когда уставала и возбуждалась от путешествия в поезде, доставлявшем их из Дижона. Изабель ненавидела – да и я, признаться, тоже, тем более что, подобно большинству музыкантов, терпеть не могу слушать музыку: она либо слишком волнует, притом, чаще всего, впустую, либо уязвляет, если ты не способен соперничать с исполнителем, либо повергает в гнев, если этот исполнитель – ничтожество, да еще самодовольное ничтожество, – словом, мы с Изабель, а также Понтий Пилат ненавидели вокальные концерты, мадемуазель Обье. Каждое воскресенье после обеда начиналось неукоснительное ритуальное действо, наследие ее матушки, которое, с момента нашего появления в жизни Мадемуазель, требовало, чтобы мы, если так можно выразиться, освящали его своим присутствием. Когда мы отлучались – в Париж, в лес Лэ или на Сену, – она спускалась в салон и, подыгрывая себе на пианино, а то и вовсе без аккомпанемента, уныло пела только для своего внучатого племянника Дени, после чего два-три дня кряду держалась с нами чрезвычайно холодно. Впрочем, она часто занималась вокалом, обходясь без аудитории, но это бывало только в будние дни. «Знаете, я сегодня так взбудоражена, – говорила она. – Того и гляди, начну прыгать, как блины, которые мамочка так ловко подкидывала и переворачивала на сковородке, когда пекла их на Сретенье. Мне необходима какая-нибудь красивая мелодия, чтобы успокоиться. Пожалуй, спою-ка я что-нибудь из Джейн де Теза, или нет, лучше „Малютку" Жюля Массне». С этими словами она начинала петь, и мало-помалу ритм музыки или просто какая-нибудь фиоритура умиляли ее, приводя в состояние просветленной радости. Оставаясь в одиночестве, она охотно – и весьма недурно – играла на пианино, но стоило нам появиться в доме, как она решительно отказывалась аккомпанировать себе. Таким образом, в четверть или в половине третьего нам приходилось тащить в салон кофейный сервиз, кофеварку со спиртовкой, пирожные «мокко», грушевый ликер, давно опостылевшее миндальное печенье и уж совсем ненавистные сигареты с ванильным ароматом. Хозяйка властно размещала слушателей в «музыкальном салоне» – комнате с музыкальными инструментами, где включала, чаще всего с полудня, электрический камин. Это был небольшой прибор ядовито-зеленого цвета, очень похожий своей раскраской, да и формой тоже, на кактус; он совершенно не грел, хотя и навевал мысли о знойной пустыне. Настоящий камин никогда не топили – мадемуазель Обье боялась, что от дыма у нее «сядет» голос. Кресла и стулья ставились кружком. Все вместе напоминало начальную школу, где наша «учительница», сделав перекличку, по своему усмотрению распределяла места и роли. Дени неизменно поручалось следить за маленькой спиртовкой и поворачивать туда-сюда странную реторту, в которой варился кофе. Изабель и я должны были сесть за рояль, звучавший, однако, гораздо хуже пианино (вдобавок и молоточки его двигались как-то расхлябанно), а Мадемуазель, как мы величали эту деспотичную старую деву, сжимая в пальчиках свои брелоки и устремив взор на висячую лампу под абажуром с желто-розовой бахромой, заводила блеющим голоском какую-нибудь арию. И мы слушали – все, включая Дельфину, сидевшую на коленях у отца, – слушали, изображая внимание, кто с сочувствием, кто со злостью, принужденно улыбаясь и подавляя рвущийся наружу хохот, очень скоро передававшийся Дельфине, которая и не думала его сдерживать. Мадемуазель Обье с царственным презрением игнорировала ее заливистые смешки, не отводя глаз от бахромы из желтого и розового бисера, смягчавшей свет белой шаровидной лампы.
Пение продолжалось не более получаса, но самой тягостной его стороной был принудительный характер этого концерта.
«А не спеть ли нам… мне?» – бросала Мадемуазель с притворной нерешительностью, поднося ко рту платочек и промокая им верхнюю губу.
«Ну… если вам угодно», – отвечал Сенесе с тем же раздумчивым колебанием.
«Главное, не стоит себя принуждать, если не хочется», – лицемерно говорила Изабель.
Читать дальше