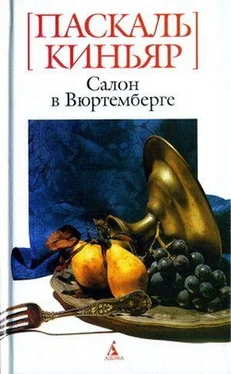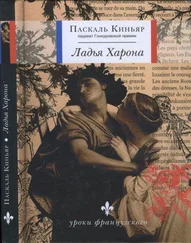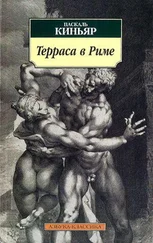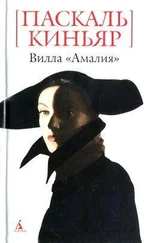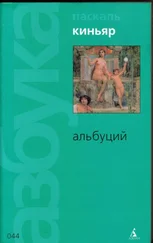«Да что это с вашей женой? – спрашивала мадемуазель Обье, обращаясь к Сенесе тоном мгновенно переходившим от мирного к оглушительно-грозному. – У нее, видать, с головой не все в порядке, если так можно выразиться; я ведь тоже умею поскандалить не хуже прочих! Понтий, прекрати сейчас же! Месье Шенонь, будьте любезны сесть к роялю!»
Я вставал с кресла, и ее гнев проходил так же быстро, как рождался; раскрывая передо мной другие ноты, она говорила – с преувеличенно томной интонацией: «Теперь давайте исполним „Вечер и утро средь папоротников"». Дельфина опять забиралась к отцу на колени, а Понтий растягивался во всю свою длину на большом восточном ковре, истертом до самой основы, хотя кое-где еще можно было различить рисунок пальмовых листьев.
Понтий Пилат был воплощением доброты – бесконечно преданный мадемуазель Обье, кроткий и приветливый со всеми остальными; хотя он и не всегда вылизывал лапы в память о древнем гигиеническом ритуале, запечатленном в анналах истории, но отличался тем же скептицизмом, что его знаменитый тезка. В этом скептицизме Понтий черпал непреходящую снисходительность ко всему на свете – при условии, что никто не будет кричать. На губах Понтия постоянно блуждала улыбка, подобная улыбке Будды, когда он сидел в позе лотоса и впервые некая тысячелетняя муха, изведавшая множество страданий, успевшая шестьсот или семьсот раз перевоплотиться в человека, опустилась на его колено и пролила слезу. У Понтия была трогательная привычка обращать к людям вопрошающий взгляд, который в то же время успокаивал вас. В разгар бурных дискуссий и пения – но только не сумасшедшего хохота – он всегда смотрел с печальной иронией, словно желая сказать: «Нет ничего нового под солнцем! Нет ничего нового под этим торшером!» Говорят, собаки часто походят на своих хозяев, – впрочем, иногда бывает как раз наоборот. Следует признать, что мадемуазель Обье имела одну общую с Пилатом черту характера – ироническую, а временами и жестокую благосклонность к окружающим; вполне возможно, что, прослужив около шестидесяти лет верной собакой своей матушке, она затем стала верной компаньонкой Понтия Пилата. Я нередко подходил к нему. Присаживался на корточки, трепал его по голове и говорил: «Привет, Понтий!»
Я научился читать по книге «Der Freiherr von Munchhausen». [8] «Мюнхгаузен» (нем.) – книга немецкого писателя Карла Лебрехта Иммермана (1796–1840), написанная в 1838–1839 гг., по следам книг Р. Э. Распе (1785) и Г. А. Бюргера (1786).
Эстония, зима. Дилижанс мчится через лес, но мороз так свиреп, что кучер тщетно пытается затрубить в рог, – прежде звонкий и заливистый, он не издает ни единого звука. Разумеется, барон Мюнхгаузен тут же находит этому убедительное объяснение: рог простудился, и у него сел голос. Дилижанс останавливается на почтовой станции. Барон подходит к очагу и вешает над ним рог. Мало-помалу под воздействием тепла оледенелые звуки, застрявшие внутри рога, оттаивают и вырываются наружу серебристыми ликующими руладами. Вот так же и в нас оттаивают, оживают воспоминания: очнувшись от долгого сна, они пробуждают и другие, делятся, множатся. «Ах ты моя о-зарница!» – восклицала мадемуазель Обье, когда малышка Дельфина, разбежавшись, кидалась ей под ноги. В начале нашего знакомства Дельфине было два с половиной года, потом исполнилось три. Это была самая очаровательная девочка на свете. Она могла подолгу сидеть ссутулившись, опершись локотками на колени, уткнув подбородок в ладошки и разглядывая кого-нибудь из нас, деревья, бабочку, поющую мадемуазель Обье, земляного червя или солнечный лучик с таким пристальным вниманием, словно хотела навечно запечатлеть это в памяти. В такой застывшей позе Дельфина могла «отдыхать» четыре-пять минут каждые два часа – на большее ее не хватало, – но это было любимое ее состояние; если же в общем разговоре проскальзывали раздраженные нотки или ее что-то волновало, она мгновенно совала в рот большой палец и начинала жадно его сосать.
Сенесе питал к дочери неистовую, страстную любовь. Это было Поклонение язычника крошечному идолу. Вечером по пятницам, когда он возвращался из гаража Генштаба позже обычного, так как ему приходилось возить своего подполковника в дальний конно-спортивный клуб, он садился у кроватки Дельфины прямо на пол и мог часами оставаться в таком положении. Наверное, постепенно его глаза привыкали к темноте, а колыбельные, которые он напевал ей на ушко, звучали все тише, все глуше. И еще долго после того, как девочка погружалась в сон, он сидел рядом, любуясь ею. Он говорил, что созерцал там, в полумраке, саму жизнь, настолько кипучую, что она проявляет себя даже в те минуты, когда дети спят, хотя бы в их сжатых кулачках.
Читать дальше