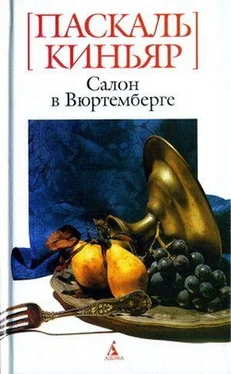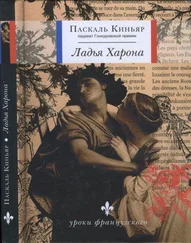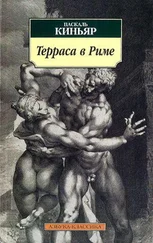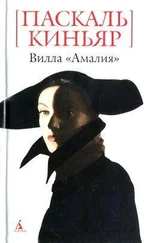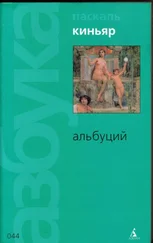Вот потому-то я и пишу эту книгу. Мне всегда доставляло чисто детское удовольствие разглядывать в музеях статуи вожделеющих богов и сатиров, приапы. Обычно такие изваяния, с их невообразимыми, могучими пенисами, стараются спрятать в самом укромном уголке. Сенесе рассказывал мне, что некогда подобных идолов грубо вытесывали из дерева крестьяне-земледельцы, которые сознательно утрировали размеры детородного органа, в надежде на то, что земля станет на диво плодородной и даст богатый урожай; впрочем, возможно также, что, во мнению мастера, этот топорный деревянный член был под стать самому богу, с его нескладным телом и, что греха таить, склонностью к пьянству, и человеку по своему образу и подобию; такого идола ставили на краю виноградника или в глубине сада, не особо тратясь на жертвоприношения: с него хватало сморщенных прошлогодних фиг, самой мелкой рыбешки из сети, женских кровей, имевших широкое применение, панцирей лангустов. Или еще более скромных даров, таких как стихи поэтов.
Странный это был бог – бог фиговых деревьев и ослов, ануса и неуклюже сработанного, нарочито бесформенного мужского члена, бесстыдно обнаженного, бесстыдно вздыбленного, напруженного желанием, которому не во что излиться в окружающей пустоте – а если бы и было куда, то в самом времени не нашлось бы ничего, что умиротворило бы его, позволив обрести привычные для нас пропорции, лишив шокирующей наготы, вернув к телесной гармонии, к детству.
Любовь, основанная на взаимном наслаждении, ненадолго переживает его, и это наше счастье. Хотя воспоминание о ней, пусть даже поблекшее и бессильное возродить прежние бурные чувства, при некоторых условиях все же сохраняется. Такое воспоминание соткано из уважения и милосердия – свойств, безнадежно далеких от самой любви. В нем трепещет чувство, на котором зиждятся лишь немногие человеческие поступки, – чувство благодарности. Мне кажется, подлинное сладострастие возможно лишь для людей в возрасте: жизненные бури смягчили их, научили всепрощению, почти нежности к ошибкам, порокам, смешным чертам других. Отсюда, быть может, рождается сочувствие, извиняющее чужие промахи, ибо, по сути дела, оно извиняет их себе.
«Ка!» – звала Жанна.
Определенная манера произносить наше имя – этот короткий звуковой символ, присвоенный теми, кто производит нас на свет, существу, еще даже не полностью отделившемуся от них, – мгновенно отпирает наше тело подобно ключу, подобно «сезаму», открывающему доступ в пещеру, к сокровищам сорока разбойников, и способному одновременно освободить Али Бабу и запереть Касима – до самой смерти или до возвращения разбогатевших разбойников. Эта манера по-своему окрестить другого любовным шепотом внезапно, как по волшебству, раскрепощает нас в ночной тьме, в наготе, в сражении экстаз, в слепом, безмолвном, неуверенном, жадном, сладостном и ожесточенном поиске, который напрягает все наше тело, помогая ему до последнего мига удерживаться от оргазма, а после раствориться в блаженном забытьи себя и всего остального.
Я созерцал красоту этой сорокалетней женщины, более близкой к персонажам Кранаха или Квентина Массейса, [122] Массейс Квентин (1466–1530) – фламандский художник.
чем к олимпийским атлетам, напоминавшим мне о Фотини Каглину. Даже легкое увядание, которым время отметило эту красоту, почти не вызывало горечи, – во всяком случае, к этой горечи примешивалась легкая толика благодарности возрасту и времени, которые украсили ее зрелые годы непринужденной уверенностью в себе, веселым обаянием и какой-то особой утонченностью. Образно выражаясь, этот розоватый фарфор стал еще более прозрачным. Ее губы всегда были приоткрыты.
В гостиной Жанна больше всего любила сидеть в желтом вольтеровском кресле. Она снимала туфли, со вздохом падала в него и устраивалась, подсунув под себя ногу. Ее карьера скрипачки развивалась неровно, со спадами и подъемами. Она была безалаберной, нервозной и неутомимой.
Вспоминая о годах, прожитых с Жанной, я думаю, что острое ощущение, которое дарит нам скорее вожделение, чем любовь, это единственное стоящее чувство, каким бы мимолетным, обманчивым и эфемерным оно ни казалось. Сладострастие подобно далекому светилу в пространстве – оно завораживает своим блеском, оно правит всем живым, хотя и выглядит всего лишь крохотной точкой в бездонном небе бытия.
Приезжая в Париж, я каждый раз виделся с Сенесе, Жюльеттой, Мэн, Шарлем. В тот день, когда я решил познакомить их с Жанной и привел ее на улицу Гинмэр, мы застали Флорана и Мэн стоящими на коленях возле кресла с лопнувшей по швам обивкой. Коленопреклоненный Флоран держал иголку в руке и пытался, по его выражению, «залечить раны» ткани, которую Мэн растягивала, весело и бойко насвистывая при этом «In Paradisum», заключительную часть «Реквиема» Габриэля Форе. [123] «В раю» (лат.). Форе Габриэль (1845–1924) – французский композитор.
Я принес им миндальное печенье из Экса. Жанна, получившая от меня подробные инструкции, купила «монашки» – круглые пряники из Ремирмона. Эксские печеньица входят в число самых любимых моих сладостей – потому что они малы, как конфеты, почти невесомы, рассыпчаты, изысканны и тают во рту; потому что своей овальной формой напоминают иконки «Христос во славе»; потому что в них привкус яблока – трагического, женского, райского – постепенно уступает место миндалю; потому что они сохранили в себе частичку аромата кипарисовой хвои и горы Сент-Виктуар близ Экса; потому что их белизна напоминает скорее цвет человеческой кожи, чем цвет молока, или клыков, или непорочности; потому что можно счесть дьявольским искушением эти крошечные благословенные хллебцы, заключенные, точно голова гангстера в шелковый женский чулок, в пресную корочку облатки.
Читать дальше