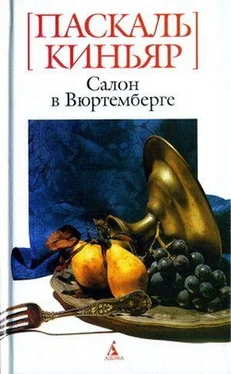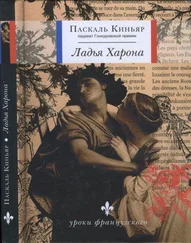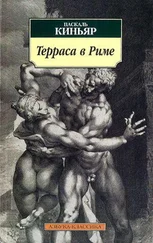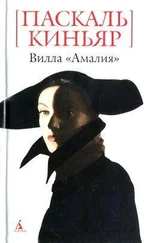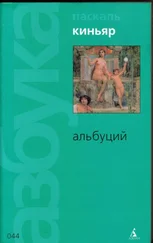Я спросил, как она поживает, счастлива ли она. Она жила на улице Марше-Сент-Оноре и, судя по всему, спешила домой. А я шел к Костекеру, мне было с ней по дороге, и мы проделали этот путь вдвоем, дружной бодрой поступью. Прошли по мосту через Сену, пересекли Тюильри, небо помрачнело, его сплошь затянули облака, но все это – и небо, и река, и сад, и этот вечер – было так красиво, что я невольно замедлил шаг. Хотя тут же и попросил у нее прощения, зная, что она торопится, и снова зашагал быстрее, лишь бы она не винила меня в своем опоздании. Она сказала, что действительно спешит, хотя никто ее не ждет. Наверное, я посмотрел на нее несколько оторопело, – мне было известно, что она замужем и у нее есть маленький сын по имени Франсуа.
«Разве ваш сын не…»
«Прекрасная погода, не правда ли? – резко прервала она меня. – Даже несмотря на то, что пасмурно».
И передернула плечами.
«А вы как будто вернулись в Германию?» – спросила она.
«Вюртемберг – это не Германия», – пробормотал я.
И тут же с удивлением отметил, что произнес эти слова в точности как мой отец, повторив его интонацию. Мы подошли к ее дому.
«Вот здесь я живу», – сказала Жанна, коснувшись моего рукава.
Я начал говорить, как счастлив увидеться с ней, что было чистой правдой.
«Хотите зайти?» – спросила она.
Растерявшись, я забормотал, что она, наверное, торопится, а я и так отнял у нее слишком много времени.
«Да я просто-напросто умираю с голоду. С самого утра ничего не ела», – смеясь, ответила она.
«О Жанна! – воскликнул я. – Меня вдохновляет все, что касается еды!»
И я купил на рыночной площади Сент-Оноре целую коробку слоеных пирожных.
Мы поужинали остатками телячьего жаркого и морковным пюре. Сестры всегда подшучивали над моей медлительной, но цепкой памятью, которая заботливо хранила в основном все, что я когда-либо ел. Спросите меня о любом празднике самого раннего детства, – и я назову вам дату, погоду того дня и меню. Цеци презрительно говорила, что я обладаю памятью «утробы». Но я так не думаю: это скорее память глаз, зубов, носа, ушей. В общем, я прекрасно помню, что, сидя в кухне, на табуретах, мы с Жанной ели остатки телячьего жаркого, ели слоеные пирожные, ели эклеры. Она отдалась мне так бурно, так безоглядно, что я был ослеплен. Потом рассказала о внезапном отъезде мужа в Калифорнию: оттуда он яростно потребовал по телефону ее согласия на развод, после чего в несколько дней, преодолев все формальности, женился на молодой спортивной девице из богатой семьи. А потом сын пришел к ней в спальню, сел на кровать и «на голубом глазу» объявил, что хочет жить у отца. Я рассказал ей о своей сестре Цецилии, которая жила в Глендейле, в окрестностях Лос-Анджелеса, и вполне могла его знать. У Цеци была дочь Лора одиннадцати или двенадцати лет, ровесница Франсуа, – может быть, она уговорила бы его писать матери.
Жанна перевернулась на живот, придвинулась ко мне, оперлась подбородком на руки, потянулась губами к моим губам.
«Теперь, когда вы знаете мое тело, и мою жизнь, и это место, – сказала она, обводя широким жестом маленькую гостиную с электрокамином, где трепетало искусственное пламя, и другие, дальние комнаты, – знаете, что я практически забросила игру на скрипке, знаете мое одиночество и унылое существование, которое ждет меня впереди, вас, наверное, все это слегка угнетает?»
«Не люблю такие вопросы, – прошептал я. – Терпеть их не могу. В преждевременных тревогах всегда кроется желание лучшего».
«Ну почему вы все время извращаете то, что вам говорят! – возразила она, прижимаясь ко мне еще теснее. – Будьте со мной откровенны, Карл! Я, как дети, хочу сразу понять, узнать, чего мне теперь держаться».
«Вы хотите не понять. Вы хотите верить».
«Да».
«Но ведь вы и сами прекрасно знаете ответ, Жанна, и я, увы, тоже его знаю. Это длится ровно столько, сколько длится. И у нас это продлится до тех пор, пока вы будете верить, пока я буду верить».
«Это не ответ».
«Раз уж вы так быстро разобрались во мне – а на это нужно совсем немного времени, – значит, боитесь, как бы я не разобрался в вас. Похоже, что жизнь не раз устраивала нам обоим ледяной душ, так что мы еще до сих пор не обсохли как следует».
Зазвонил телефон. Она вышла, чтобы ответить. В комнату заползли сумерки, ночная темнота. Я оглядывал помрачневшую гостиную вокруг себя: десяток скрипичных футляров, приставленных к стене, учебный рояль, на стенах открытки и портреты музыкантов в разноцветных соломенных рамочках, низкий, ужасно безвкусный столик из белого стекла с золочеными ножками, на котором стоял чайник из черного глянцевого чугуна. Тогда-то я и ощутил след, оставленный прошлым в моей жизни. Мы без конца возвращаемся вспять по собственным следам внутри себя, без конца блуждаем в слепом поиске, влекомые тем же неистовым стремлением, что правит неумолимой судьбою лососей, мечущихся в водах всех рек, всех морей, чтобы найти пресную воду, где они родились, судорожным толчком извергнуть в нее свои подобия и умереть. В тот момент, когда я отодвинул подальше чугунный и такой холодный чайник на столике, во мне поднялось желание ощутить во рту вкус густого пива, темного, очень горького пива, куда более горького, чем самый черный, самый холодный чай, подернутый тоненькой пленкой с золотисто-медными разводами. Горечь – вот что непрестанно взывает ко мне из прошлого.
Читать дальше