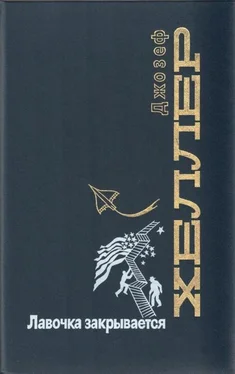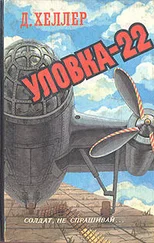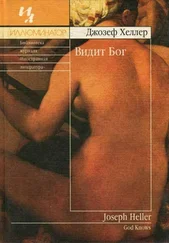— Es brennt. Alles brennt. Die ganze Stadt. Alles ist zerstöit. [89] Он горит. Все горит. Весь город. Все разрушено. ( нем. ).
— Все горит, — перевел я таким же приглушенным голосом. — Города нет.
Мы не могли себе представить, что это значит.
Утром, когда они вывели нас наружу под дождь, все остальные были мертвы. Мертвые валялись на улицах, обгоревшие до черноты, как головешки, и засыпанные серым пеплом, все еще выпадавшим из поднимавшегося повсюду дыма. Мертвецы лежали в почерневших домах, где выгорело все дерево, мертвецы лежали в подвалах. Церкви исчезли, а оперный театр покосился и упал на площадь. Лежал на боку троллейбус, тоже обгоревший. Столб дыма поднимался над крышей почерневшего остова железнодорожного вокзала, а капли дождя были черными от сажи и пепла и напомнили мне грязноватую воду из шланга, которой мы умывались, закончив работу на нашем складе старья. Мы увидели, что в дальнем конце парка деревья, все деревья, горят поодиночке, как факелы, как на городском празднике, и я подумал об искрящихся шутихах, о фейерверке на Кони-Айленде у Стиплчезского пирса, этими фейерверками я любовался каждый вторник по вечерам в летний сезон всю свою жизнь, и еще я подумал о сверкающих огнях Луна-парка. Наше здание — скотобойня, в которой мы жили — исчезло, как исчезли и все остальные здания в нашей части города. Мы стояли не двигаясь больше часа, прежде чем кто-то подъехал к нам на машине и сказал, что нам делать, и эти люди в форме были ошеломлены не меньше нашего. Им потребовалось больше часа, чтобы решиться поставить точку и приказать нам выходить из города в направлении холмов и гор. Вокруг нас, насколько мы могли видеть, все были мертвы — мужчины, женщины и дети, все попугаи, кошки, собаки и канарейки. Мне было жалко их всех. Мне было жалко рабынь-полячек. Мне было жалко немцев.
Мне было жалко себя. Им до меня не было дела. Я едва сдержался, чтобы не заплакать. Неужели им было все равно, что здесь могли быть мы? Я так и не знаю, почему мы остались в живых.
Я понимал, что ровным счетом ничего не значил. Все это могло произойти и без меня и с тем же результатом. Я не значил ничего нигде, разве что дома для своей семьи и нескольких друзей. И я знал, что после этого и голосовать даже никогда не захочу. Но я голосовал за Трумена, потому что он был другом Израиля, а после Трумена я не голосовал ни разу. После ФДР я ни о ком из них не был высокого мнения и ни одного не уважал, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из этих хвастливых ублюдков в обеих партиях хоть на секунду вообразил, будто я поддерживаю их честолюбивые планы.
— Они не знают об этом, Лю, — сказал мне когда-то давным-давно Сэмми, улыбаясь, как он это нередко делал, этой своей улыбкой образованного человека. Он пытался пробудить во мне интерес к Адлаю Стивенсону, а потом позднее к Джону Кеннеди. — Они не знают, что ты их не поддерживаешь.
— Но я-то знаю, — ответил я. — И голосовать за них не собираюсь. Мы не в счет, и наши голоса тоже будут не в счет. Как ты думаешь, сколько времени тебе понадобится, чтобы тебя начало тошнить от Кеннеди?
Ему понадобилось на это меньше недели, еще инаугурационные торжества не успели закончиться, и я не думаю, что Сэмми голосовал за кого-нибудь после, наверно, Линдона Джонсона.
Я не очень-то слежу за тем, что происходит в мире, а если бы я и стал этим интересоваться, то вряд ли что-нибудь изменилось бы. У меня свои дела. Если случается что-нибудь важное, то мне об этом так или иначе становится известно. То, что я узнал, я запомнил, и это оказалось правдой. То, что я был в армии, не имело никакого значения, это вовсе не шло в счет. Если бы меня там не было, ничего бы не изменилось, все было бы так же — пепел, дым, мертвые, конечный результат. Я никак не ускорил гибель Гитлера, я ничем не помог государству Израиль. Я не хочу, чтобы меня в чем-то упрекали или приписывали мне несуществующие заслуги. Единственное место, где со мной считались, — это дом с Клер и детьми. Не знаю, может, потом кому и понадобится, может, внукам, а пока я убрал подальше мою Бронзовую звезду, мои знаки различия пехотинца, полученную благодарность, сержантские нашивки, которые были у меня при увольнении, и наплечный знак с красной цифрой 1 Первой дивизии, Большой красной единицы, успевшей пройти сквозь ад, прежде чем я попал туда, и прошедшей через кое-что похуже ада, когда меня там уже не было. Теперь у нас четверо внуков. Я люблю всех в нашей семье, и чувствую, что готов уничтожить, может быть, даже убить по-настоящему, любого, кто надумал бы навредить кому-нибудь из них.
Читать дальше