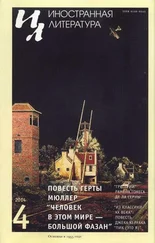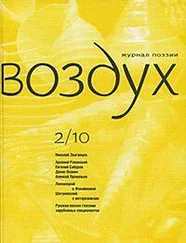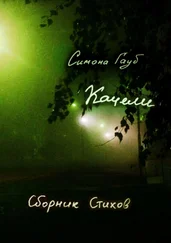«У нас в гимназии, в Обервишау, весь предрождественский месяц по утрам, перед первым уроком, зажигали свечи в венке. [26] Традиционный венок из еловых веток с разными украшениями; в нем укрепляют свечи, которые зажигают одну за другой в течение четырех недель, предшествующих Рождеству.
Венок висел над кафедрой. А голова у нашего учителя географии — звали его Леонида — была совсем лысой. Свечи горели, и мы, как обычно, пели: "Елка, милая елка, как зелены твои игол…" Но, едва начав песню, умолкли, потому что Леонида вдруг вскрикнул: АЙ! Ему на лысину капнул розовый воск. Он заорал, чтобы мы немедленно задули свечи, и откинулся на спинку стула. Затем из кармана пиджака вынул перочинный ножик в форме серебристой рыбки. «Подойди-ка», — подозвал он меня и, открыв нож, наклонил голову. Мне пришлось соскребать ножом воск с лысины. Голову ему я не поцарапал. И когда снова сел за парту, Леонида подошел ко мне — только для того, чтобы отвесить затрещину. Я хотел было вытереть слезы, но он заорал: "Руки за спину!"»
Беа Цакель добыла для меня у Тура Прикулича пропуск, чтоб сходить на базар. О том, что у тебя есть возможность свободно выйти из лагеря, говорить другим — голодным — не стоит. Я и не сказал никому. Лишь прихватил с собой наволочку и кожаные гамаши герра Карпа, поскольку цель всегда одна: половчей выменять дополнительные калории. И ровно в одиннадцать отправился в путь — точнее, мы отправились: мой голод и я.
После дождя было пасмурно. В грязи стояли торговцы ржавыми винтиками и шестеренками и сморщенные старушки, продающие жестяную посуду и горстки голубой краски, которой красят дома. От этой краски лужи стали голубыми. Рядом располагались прямо на земле — кучками — сахар и соль, сушеные сливы, кукурузная мука, пшено, перловка и горох. Продавались даже кукурузные пирожки с начинкой из сахарной свеклы, разложенные на листьях хрена. Перед беззубыми женщинами стояли бидоны с густой простоквашей, а у одноногого мальчика с костылем было полное ведро красного малинового сиропа. Вокруг шныряли проворные оборванцы, предлагая искривленные ножи и вилки, а также удилища. В банках из-под американских консервов скользили, словно живые булавки, серебристые уклейки.
Надев гамаши на руку, я продирался сквозь эту сутолоку. Перед плешивым стариком в военной форме, грудь которого прикрывала броня из десятка орденов и медалей, лежали две книги: одна — о вулкане Попокатепетль, другая — с двумя крупными блохами на обложке. Книжку о блохах я пролистал, в ней было много картинок: две блохи на качелях, сбоку — рука дрессировщика с крохотной плеткой; блоха на спинке кресла-качалки; блоха, запряженная в свадебную карету из ореховой скорлупки; торс юноши с двумя блохами между сосками и двумя симметричными цепочками одинаковых следов от укусов, тянущихся до пупка.
Старик стянул у меня с руки гамаши и приложил их к своей груди, потом к плечам. Я показал ему, что они предназначены для ног. Он гулко захохотал, смех шел из живота; точно так же — как клекочут огромные индюки — смеялся иногда на проверке Тур Прикулич. Верхняя губа у старика то и дело цеплялась за обломок зуба. Подошел соседний торговец, потеребил кожаные шнурки на гамашах. Потом появился еще один, с ножами в руках. Рассовав товар по карманам, он приставил гамаши к своим бедрам, затем к заднице — и принялся скакать, дурачась, как ненормальный. А тот старик — с зубом, в военной форме — аккомпанировал его прыжкам, издавая губами пукающие звуки. Подошел какой-то оборванец с забинтованной шеей и костылем из обломка косы с рукояткой, замотанной тряпками. Он концом костыля подцепил мою гамашу и подкинул вверх. Я кинулся ее поднимать. Чуть дальше приземлилась вторая. Когда я нагнулся за ней, в грязи — помимо гамаши — лежала скомканная купюра.
«Кто-то потерял, авось пока не хватился, — подумал я. — А может, он уже ищет; может, кто-нибудь из этой шатии — еще когда они делали из меня посмешище или именно сейчас, когда я нагнулся, — заметил купюру и ждет, что будет дальше». Вся компания продолжала смеяться надо мной и моими гамашами, а я уже зажал деньги в кулаке.
Мне нужно было быстро скрыться с их глаз. Я втиснулся в толчею и, сунув гамаши под мышку, разгладил купюру: десять рублей.
Десять рублей — это было состояние. «Ничего не высчитывать, только есть, — мелькнуло в голове. — А что не съем сразу, пойдет в наволочку». Времени, чтобы пытаться продать гамаши, у меня уже не оставалось; этот обременительный товар с другой планеты только привлекал бы ко мне внимание. Я позволил гамашам незаметно упасть на землю и серебристой уклейкой скользнул от них прочь.
Читать дальше