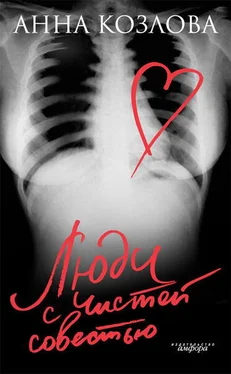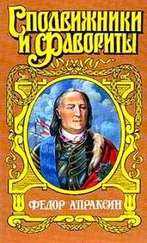Дима оказался человеком вполне сносным и в целом не злым. К Валере он относился с ровной доброжелательностью. Аня тоже как-то успокоилась и снова влезла в привычный образ хозяйки, матери и жены.
Так они прожили еще четыре года.
А потом случилось то, что всегда происходит с людьми, которые хотят быть счастливы. Увы, людям свойственно забываться, подставлять жизни мягкое брюхо, валяться у нее в ногах и тихо наслаждаться тем, пускай, извращенным, пускай, порочным покоем, который она время от времени нам дает в качестве передышки.
Над семейными ситуациями, схожими с Валериной, можно подшучивать, иронизировать, но юмор, увы, не спасает. В сущности, от юмора нет почти никакого толку. Можно долго с юмором относиться к явлениям действительности, это порой продолжается многие годы. В иных случаях удается сохранять юмористическую позу чуть ли не до гробовой доски, но, в конце концов, жизнь разбивает вам сердце. Сколько бы ни было отваги, хладнокровия и юмора, хоть всю жизнь развивай в себе эти качества, всегда кончаешь тем, что сердце разбито. А значит, хватит смеяться. В итоге остаются только одиночество, холод и молчание.
Одним утром Дима вышел из дома, чтобы отправиться на работу.
Пересек двор и попал на оживленный даже больше, чем следует, проспект. Деньги у него водились и, поленившись спускаться в метро, Дима решил поймать машину.
Водитель выжил, а Дима нет. Его хоронили на Митинском кладбище в закрытом гробу. На деньги, которые они с Аней методично откладывали для первого совместного отпуска в Турции.
Дарий Петрович после смерти Димы впал в окончательные и бесповоротные сумерки.
Он целыми днями плакал, не ел даже конфет, а примерно через неделю, когда онемевшая от горя Аня внесла в его комнату поднос с завтраком, предложил ей «вместе с выблядком» убираться из его квартиры.
Дарий Петрович решил, что погиб его единственный, страстно любимый сын, единственная на старости лет отрада в жизни, и теперь он считает себя ничем не обязанным жене сына и ее ребенку, нагулянному, как он выразился, еще до брака с Димой, довольно и того, что бедный инвалид терпел их столько лет.
Аня только покачала головой.
Выживший из ума психиатр, однако, на этом не остановился. Он названивал в какие-то благотворительные организации, приглашал работников собеса, от которых требовал организовать комиссию, чтобы та оценила катастрофические условия его содержания.
Приглашенным специалистам Аня молча демонстрировала свидетельство о браке и Валерино свидетельство о рождении — все они рекомендовали поскорее поместить Дария Петровича в интернат.
— А так он и вас с ума сведет, — сказала одна полненькая женщина, чью шею сжимали три золотые цепочки, — что вы себя-то гробите, а? Вон ребенок у вас есть, это — главное. А этот, — женщина махнула рукой в сторону уснувшего в своей коляске психиатра, — ничего он вам хорошего в жизни не принес, и ничего вы ему не должны. Хоть вздохнете под конец спокойно.
— Вы правы, — прошептала Аня.
Месяц потребовался на оформление нужных бумаг, и Дарий Петрович отбыл в психушку, где через год скончался.
Аня на этом, правда, не успокоилась — Валера даже начал подозревать, что у матери тоже не в порядке с головой. Она упорно встречалась с мужчинами и приводила их в дом. Валера запомнил вечно кряхтящего, радикулитного дядю Сережу. За ним следовали два дяди Саши, которые так мало друг от друга отличались, что он мысленно называл их Александр I и Александр II.
Мать устроилась приемщицей в химчистку рядом с домом, проработала там десять лет, вербуя любовников из числа одиноких клиентов, а потом пришел и ее черед сменить место жительства.
В двадцать лет Валера, студент третьего курса факультета журналистики, остался сиротой.
Школа выглядела самой обычной школой. Два корпуса, соединенные коридором с большими окнами, три этажа, если смотреть на здание с высоты птичьего полета — напоминает примитивный макет самолета. В таких школах мучилась добрая половина Валериных ровесников: и Даша получала в самолетике двойки, и Рыбенко хихикал на уроках биологии, за что его отправляли в коридор с большими окнами, поливать цветы. Во всех тяготеющих к авиастроению школах соединительный коридор от века превращался учителями биологии в оранжерею. Там на окнах сохли папирусные герани, пылились зеленые языки сансивьер, и мрачно ежилось бледное алоэ, от которого дети норовили отщипнуть кончик.
Читать дальше