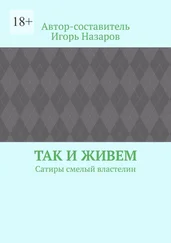Догадаться, по словам Бориса, было нетрудно: дверь квартиры болталась на одной петле, а оба замка были вырваны с мясом.
- Я не сразу ушёл, – продолжал Борис. – Я подумал, что ведь если они ломали дверь, тогда у Жени должно было быть время – они же не сразу, наверное... Может быть, она успела записку написать и спрятать где-нибудь в квартире.
Превозмогая страх, Борис боком открыл дверь – «чтобы не оставлять отпечатки пальцев». Он дал себе слово, что пробудет в квартире ровно десять минут. За это время он сумел заметить, что Жениного ноутбука нигде нет и что все ящики в её комнате выдвинуты. Сумка на колёсиках, в которой она держала свои вещи, тоже отсутствовала. Борис достал носовой платок – «мне Катя как раз утром дала чистый», трогательно пояснил он – и с его помощью открыл все остальные шкафы в квартире, включая холодильник и хлебницу. Он не нашёл никакой записки, но зато обнаружил пустые ампулы и шприц на кухонном столе, а также подсохшую блевоту на полу ванной комнаты и на краю самой ванны.
- И раковина была разбита, и шампуни, и всё остальное – всё было разбросано по полу. Да, и полотенца – два полотенца лежали в ванне, ещё мокрые. Со следами крови! – дрожащим голосом описал Борис.
Десять минут ещё не вышли, но он больше не мог находиться в квартире – он убежал оттуда, даже не притворив за собой дверь. Он не знал, что у Жени был яд. Об этом знала только Катя. Знала она и то, что на самом деле ампулы содержали апоморфин. Рвотное средство. В апреле она сама принесла Жене эти ампулы. Ей надоело слушать нетрезвые просьбы о яде.
- Катя такая молодец! Она помогла мне потом ход событий восстановить. Кто-то, видимо, пришёл за Женей. Она не открыла. Они начали ломать дверь. Она вколола себе апоморфин. Только одна загадка остаётся: откуда следы борьбы в ванной комнате. Я думал-думал. Одно объяснение более-менее подходит: кто за ней пришёл, они не понимают разницы между внутривенной инъекцией и приёмом яда через рот. Они увидели, что её рвёт, и, может быть, решили промыть ей желудок силой...
- У этой девушки был яд? – переспросила мама с большим запозданием. – Зачем?
- А? – сбился Борис. – Да-да, ну то есть нет, конечно! Рвотное средство, не представляющее опасности для жизни, как я уже сказал. Мы с Катей уверены, что с Женей – что с этой девушкой всё в порядке – то есть что она жива, по крайней мере. Если, конечно, её...
Он запнулся.
- Если её что, Боря? – спросила Зинина мама.
- И что на это Кирилл? – в два раза громче спросила Катя.
- Он меня перебил, – Борис плаксиво поморщился от Катиного крика. – Что не хочет больше ничего слышать, сказал. Не хочет больше знать никаких подробностей. Послал меня на три буквы и ушёл обратно в бизнес-центр. Ну, и тут до меня дошло, конечно же, что я облегчил душу не по адресу. У меня даже головокружение началось. В Невку прыгнуть захотелось...
- И надо было прыгать! – рявкнула Катя. – Вниз головой твоей дубовой! Надо же так растрепать всё! И кому! Мать моя женщина, кому! Этот Кирилл – ты ж первый раз его в жизни видел! Первый раз в жизни!
Она швырнула на пол сумочку, которую всё это время мяла в руках, медленно осела на подставку для обуви и закрыла глаза.
- Ребята, – мама встала с трильяжа, осенённая догадкой. – Это всё как-то с Зиной связано?.. Или нет?
Катя три раза кивнула, не открывая глаз.
- Напрямую, Татьяна Игоревна... Боря, – она открыла глаза, чтобы посмотреть на Бориса. Её взгляд больше не испепелял. – До меня научрук твой дозвонился. Левыкин твой.
Борис озадаченно поправил очки.
- Я с ним утром разговаривал... – пробормотал он.
- Ага. А потом, когда ты с кафедры ушёл уже, с ним декан разговаривал. А декана поставили в известность. Соответствующие инстанции. Мол, несмотря на все наши паспорта отобранные и беседы профилактические, произошла утечка научной информации. Сверхсекретной. За рубеж. Мол, есть все основания предполагать, что утекло через сотрудников Академии. Есть конкретные подозреваемые. Выдан ордер на арест. Сегодня, значит, арестуют, а завтра по всем корпусам расклеют оповещения воспитательного значения. С именами. Имена декан Левыкину не сказал, но Левыкин-то твой не слепой... Он, говорит, в марте ещё понял, к чему, как он выразился, «сыр бор весь». Говорит, когда ему первый раз пересказали мартовский циркуляр про морги, он ни секунды не сомневался, чем там вызван интерес в Москве к «протеканию процессов декомпозиции». Говорит, поначалу даже хотел переговорить с нами. Хотел предложить вместе подготовить данные известные. Отправить в Москву. А потом пошли разговоры о допросах в Мечникова. Потом паспорта у всех поотбирали. Левыкину не по себе стало. Решил не высовываться. Решил: если придут и прямо спросят – он скажет. А не придут и не спросят – не скажет... Вот я теперь и не понимаю, чего это он вдруг? Чего он бросился нас предупреждать? Говорил со мной чуть ли не шёпотом, голос дрожит... Я переспрашивала без конца, а он всё бубнит и бубнит еле слышно... Чего он, спрашивается, о нас печётся, когда у самого так коленки трясутся?
Читать дальше