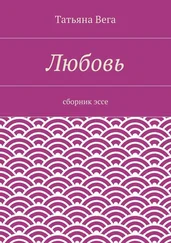Про марксизм-ленинизм я кое-что знаю. Знаю, где он находится: чуть позади памятника Юрию Долгорукому, слева, если стоять к нему лицом. Дед иногда берет меня туда с собой. Он идет «по делам», а меня оставляет в буфете, где я ем бутерброды с черной икрой, запивая газировкой. Это и есть марксизм-ленинизм. Когда я дорастаю до десяти лет, мы с дедом снова в ИМЭЛе, но там не до бутербродов, все столпились и что-то обсуждают, бурно жестикулируя, я жду. Дед чрезвычайно обеспокоен, по дороге домой он объясняет мне, что произошло страшное: сняли Хрущева. В лифте, когда мы поднимаемся на наш четвертый этаж, добавляет: это трагедия масштаба убийства Кеннеди. Дверь открывает бабушка, дома дед дает волю эмоциям и долго не умолкает. Я, хоть и делаю вид, что чем-то занимаюсь, — вся внимание. Затаив дыхание, подслушиваю. Бабушка молчит. А потом говорит коротко и даже вяло: «Все расстрельные списки по Москве подписывал Хрущев. Он ничем не лучше Сталина, я же с ним работала в МГК, просто время изменилось. И Брежнев этот, даже если захочет, Сталиным не станет». «Азохэнвей, бояре!» — восклицает дедушка. Он часто так говорит, когда не согласен.
На первом курсе МГУ мне нравилось все, кроме истории КПСС. Я многое слышала от бабушки, от дедушкиных коллег и друзей (особенно увлекателен был историк Гефтер), интересовалась, читала, хоть и была настроена критически ко всей этой эпопее. В партийном косноязычии слышались кличи кровожадных племен, восточный лукум и блатная феня. Крыса с кафедры марксизма-ленинизма заставляла зубрить написанное в учебнике и раздражалась от любых с ним расхождений. На экзамене она поставила мне двойку. Меня вызвали на учебно-воспитательную комиссию. Проработали, объяснили то, что ясно было и так: если не одумаюсь, меня выгонят из университета. Я не одумалась, потому что считала, что права, и защищала свою точку зрения. Девчонки , мои соученицы, меня не поддержали: «Думаешь, ты одна такая умная, а мы, дураки, не понимаем, что все это вранье и трескотня? Но таковы правила игры». Зато меня поддержали мои педагоги, Аза Алибековна Тахо-Годи прежде всего, читавшая курс античной литературы. По всем предметам у меня «отлично», а по КПСС — «неуд», в этом было что-то вызывающее. После неудачи с запугиванием ко мне решили применить другую тактику. В коридоре меня настиг завкафедрой марксизма с истфака, которого я никогда прежде не видела, и стал как бы по-отечески стыдить: «Ай-ай-ай, ваша бабушка, ваш дедушка, а вы…»
Меня не выгнали. Мне поставили тройку и заключили со мной соглашение, что я больше не буду ходить на занятия по «этим» дисциплинам, а мне будут автоматически ставить переводные баллы. Меня даже не лишили стипендии, а на втором курсе и вовсе дали повышенную вкупе со свободным посещением, философию марксизма я без проблем сдала на «хорошо» и была уверена, что все рассосалось само собой. Кто-то мне потом, когда я уже закончила университет, сказал, что вмешался мой дед, проректор был его учеником. Сам дед никогда и виду не подал, только внимательно меня выслушивал. Ему во всех случаях импонировала «принципиальность».
Когда дед умер, я мысленно провожала его сорок дней, чтоб ему не было одиноко и грустно. А ему, конечно, было грустно. Мама отказалась дать разрешение на его захоронение в бабушкину могилу, но и бумаги с просьбой о выделении другого места писать не хотела. Она вообще не хотела его знать. Его смерть как бы навсегда припечатывала его в качестве ее отца, чье отчество и фамилию она носила. Его смерть будто отрезала ей путь к отцу по крови, «настоящему», хотя и совершенно мифическому. Без бумаги от дочери вопрос с кладбищем зашел в тупик. Гражданская жена деда официально не имеет к нему никакого отношения. Я — внучка с другой фамилией и даже не могу доказать, что я внучка. Ужасные это были дни. Я впилась как клещ и буквально заставила маму написать заявление, теперь все трое покоятся в одной могиле. Пока была бабушка, в нашей семье царил мир и любовь. Что же произошло? Из конструкции вынули краеугольный камень, замо́к свода? Своей волей я решила воссоздать семью. Кладбище в данном случае — отражение, фотография умиротворения. Я — единственный их помощник с этой стороны. «Военные тайны» наделали много вреда.
Глава двадцатая
1946–1954
Виола поставила рекорд — целых два с половиной года работала в одном месте, в МВТУ им. Баумана. Читать лекции стало своеобразной терапией, она переносилась на тридцать, двадцать лет назад, та жизнь прокручивалась как кино, а звезда экрана с горящим взором — вот она, Виола Серова после съемок, синяки под глазами, опухающие ноги, и руки опустились. Война сняла всякий надзор за соблюдением утвержденных программ и учебников, Виола только поначалу придерживалась «методического пособия», но студенты сами подтолкнули ее к мемуарному жанру: «А вы Ленина видели? А про Инессу Арманд — правда?» К концу первого послевоенного семестра надзор возобновился, и ей предложили после зимних каникул уйти. Не выгнали, а направили в Высшую партшколу, повысить квалификацию. Виола отговорилась, что преподавать не хочет, и записалась в аспирантуру, предъявив свой старый доклад об Энгельсе. Ей нужен был свободный режим, чтоб отправиться по давно составленному в голове маршруту. Весь 1946-й она колесила: сначала по Поволжью — открытки Андрея были из этих краев, потом стала искать указанное в извещении место в Курской области («лес, 1 км севернее деревни Либовские дворы») — от деревни и следа не осталось. Виола не узнавала местности, где они с Ильей так много бродили, когда отдыхали в санатории имени Ленина, да и сам санаторий словно ушел под землю. Пейзаж не менялся, едешь-едешь, а будто стоишь на месте: выжженная земля, воронки, окопы, обугленные доски и леса, перевернутые танки, каски, автоматы, и ни людей, ни могил. Вернее, это была одна нескончаемая могила. Из батальона, где служил Андрей, в живых не осталось никого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу