Он подчеркнуто поклонился, еще секунду его силуэт маячил на фоне ночи, разверзшейся за ним, как огромная пасть.
— Кхуда хафиз, [82] До свидания.
всего наилучшего. Мулла уже начал службу, пора уже, наконец, перестать опаздывать.
Дверь защелкнулась за ним, так тихо и непререкаемо, что я не успела прокричать ему вслед:
— Кхуда хафиз, да защитит тебя Аллах.
Обернувшись к прилавку, я увидела тебя, красно-черный калонджи, сначала приготовленный для Харона, теперь испорченный моей кровью, рассыпавшийся по прилавку темным пятном. Молчание тяготит больше, чем упрек.
Я минуту глядела на тебя, затем смела в подол сари. Отнесла к мусорному ведру.
Потеря. Легкомысленная, непростительная потеря. Вот что сказала бы на это Мудрейшая.
Во мне поднимается печаль горячими серными парами. Печаль и какое-то еще чувство, которое я не решаюсь определить — вина, или, может, отчаяние.
Позже, — пообещала я себе, — разберусь с этим позже.
Но, подходя к дальним полкам моего магазина, где ждал мой Американец, я уже понимала, что мое «позже» — как пар, нарастающий в кипящей кастрюле, наглухо закрытой крышкой.
— Иногда у меня болит, — говорит Американец, — здесь. Он берет мою руку и кладет себе на грудь.
Тило, он понимает, что делает?
В центре ладони я чувствую биение его сердца. Оно странно четкое, как будто капли воды ударяются о камень. Не похоже на то, что у меня в груди: галоп лошади, безумно несущейся в темноте. Усилием воли я сконцентрировала взгляд на его одежде. Да, Харон правильно заметил: мягкий тонкий шелк рубашки под моими пальцами, темные брюки очень элегантны, облегающая куртка сидит превосходно. Приглушенная глянцевитость кожи на запястье. А на безымянном пальце бриллиант сияет белым пламенем. Но тут же я выбрасываю все это из головы, потому что мне ясно, что его одежда мало что говорит о нем самом. Теперь я только наблюдаю, как бьется жилка на его горле, как смягчается выражение глаз, когда я смотрю в них.
Мы у прилавка, он между нами, как стена: я за ним, он, длинноногий, оперся на него с другой стороны, — да, специи глядят на все это.
— Кажется, с сердцем все в порядке, — выдавила я.
Должно быть, под рубашкой его кожа золотится, как свет лампы, волоски на его груди — жесткие, как трава. Нет. Мне является другой образ: он такой четкий и режущий, что нет сомнений, именно он настоящий. Его грудь лишена волос, она гладкая, как прогретое солнцем еловое дерево, из которого мы на острове делали амулеты.
— Да, так и доктора все говорят.
Одинокий Американец, я хочу узнать о тебе больше. Зачем ты ходишь к докторам, с какого времени у тебе эта боль. Но когда я пытаюсь заглянуть в тебя, то вижу только свое лицо, как отражение в застывшем, как ртуть, озере.
— Может, они и хотели бы мне сказать, что, например, это у меня с головой что-то не так. Но только для них это было бы невыгодно.
Его глаза заискрились смехом, когда я сказала:
— О'кей, я дам тебе одно средство, но только чуть-чуть.
Его волосы отливают, как черные крылья на солнце.
Ты играешь со мной, мой Американец, и я пленена.
Для меня это ново. И от этого я неожиданно делаюсь невесомой внутри старого тела.
— Может быть, тебе нужно немного любви, чтобы исцелить свое сердце, — сказала я, тоже с улыбкой. Удивительно, как быстро я научилась кокетству. — Может быть, в этом причина боли.
О бесстыдная Тило, и что теперь?
— Ты правда так думаешь? — сказал он, став серьезным. — Ты полагаешь, любовью можно вылечить сердечную боль?
Что могу я ответить, никогда не прибегавшая к такого рода лечению.
Но прежде чем я попыталась что-то ответить, он прогнал серьезность смехом:
— Звучит отлично, — и добавил: — Так у тебя есть что-то для меня?
Я на мгновение ощутила разочарование. Но потом подумала: правильно, так будет лучше.
— Конечно, — сказала я уже отрешенно, — как и для всех и всегда. Один момент.
Вслед мне послышалось:
— Стой, я не хочу, чтобы для меня было как для всех. Я хочу… — но я не остановилась.
Во внутренней комнате я подошла к корню лотоса, ощутила в ладони его гибкость, подержала несколько секунд в волнении.
Почему бы и нет, Тило, ведь ты и так уже нарушила все правила.
Я отложила его со вздохом.
Корень лотоса, падмамул, возбуждающий чувственное влечение, который я сорвала на самой середине озера на острове, — нет, для тебя не пришло еще время.
Я вернулась, и он, посмотрев на мои пустые руки, приподнял бровь.
Читать дальше

![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/26098/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu-thumb.webp)
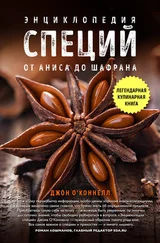






![Лариса Петровичева - Принцесса без короны. Отбор не по правилам [= Принцесса без короны. Неправильный отбор] [litres]](/books/389397/larisa-petrovicheva-princessa-bez-korony-otbor-ne-thumb.webp)


