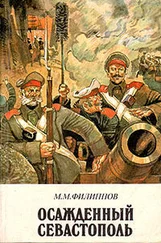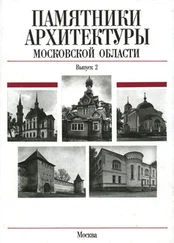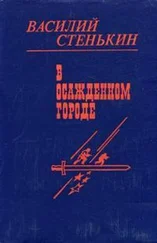Она, наверно, никогда б не узнала, зачем вытягивала во всю длину одну руку и одну ногу, если б с неделю тому назад не высунулась из окна кухни, не заглянула во дворик напротив и не заметила кассира из лавки «Золотой Галстук».
Незамеченная, она застала его врасплох. Он стоял на солнцепеке и внезапно произнес, обращаясь к бочке с мусором: «Не вертись, милая». Кассир из лавки, известный человек, стоял на солнце и пристально смотрел на бочку с мусором. «Не вертись, милая, — сказал он бочке, — тут и оставайся». Затем, успокоенный, погрустнел как-то, словно опять какая-то выкладка не получилась.
Не зная, что за ним наблюдают, он был доверителен и правдив. И казался таким одиноким, что было бы бесстыдством наблюдать за ним. Но когда он выходил из дворика, то принял уже вид удовлетворенный, казалось даже, что скромничает, и махнул рукой, словно ограждаясь от восхвалений толпы. Перед входом в лавку еще поворчал, затягивая ремень на брюках. И лукаво захихикал, слегка пожимая плечами, — кто внутри него смеялся надо всем? — …он был тощ, сутулил спину под потертой рубашкой, и что-то внутри него смеялось, в то время как он сам — если б его тронули, он упал бы как подкошенный — стоял и смотрел в последний раз на бочку, ворча сердито, но удовлетворенно.
Боясь пробудить его, Лукресия, устыженная, отошла от окна. В тот же день она встретила его у подножья лестницы, и он сказал, торопливо и сердечно: «Добрый вечер, Лукресия».
Поняв свои выверты в комнате благодаря воспоминанию о кассире, девушка поймала себя на том, что крутит прядь своих волос, заплетая и расплетая. И сама не знала, что привело ее к такому простому движенью.
Какая топкая дорога пройдена была в темноте, пока мысли не распустились в действия! Все предместье трудилось в подземельях канав для того лишь, чтоб на том или ином углу кашлянул какой-то человек.
В ней самой правда была тоже под надежной защитой. Это ее не особенно заботило. Подобно тому как никогда не требовалось ей особого ума, не требовалось и правды; любой ее портрет был понятней, чем она сама.
Впрочем, немного смущенная, она поняла, что знает о себе столько же, как этот кассир перед мусорной бочкой. И, подобно ему, возгордилась тем, что настолько себя не знает. «Незнанье себя» было необычней, чем «знанье себя», и последнее не заменяло первого.
Так что девушка в конце концов была удовлетворена и продолжала заплетать косу. Если и было у нее какое-то понятие о своих действиях, тогда как тот кассир никогда не узнает, почему говорил с мусорной бочкой, — то потому, что Лукресия Невес так привыкла всю жизнь себя изображать, что иногда ей и правда удавалось себя увидеть.
Но только видела она себя, как животное видит дом, на который смотрит: ни одна мысль не выходила за пределы этого дома.
Таким было приближенье без близости, свойственное лошадям; и лишь ими одними здания города были полностью видимы. И если огни, один за другим, гасли в окнах и в темноте ничей взгляд не мог уже выразить действительность, — возможным и достаточным знаком ее был бы удар копытом, прокатившийся от перекрестка к перекрестку, пока не достигнет поля.
Бода струилась по стенам, и внутри комнаты каждый предмет с размытыми чертами возвращался в свое мирное существование.
То, что было из дерева, отсырело, что из металла — остыло. Развалины еще дымились. Но вскоре комната, в своих последних испарениях, отдыхала так тихо, как никто никогда еще не наблюдал. Последние огни были погашены.
Правда, в темноте девушка еще бодрствовала, сонно мечтая о замужестве, а мальчик-безделушка играл на флейте в темном углу. Когда-нибудь она разглядит безделушку, вскоре или через много лет, ведь прекрасное не спешит, время одной жизни не равняется ли точно времени ее смерти?.. По крайней мере, она-то уж овладела своей формой движенья и своим инструментом взгляда.
Мальчик-безделушка наигрывал во тьме, и девушка стала отдаляться, забросив за спину косу. Она еще видела флейту, поднятую в воздух. Но под пристальным взглядом вещи начали корчиться, медленно плавясь, флейта раздваивалась, пока ее контуры не распались на части, — сраженная бдением, Лукресия Невес задремала.
Комната, готовясь к долгому сну, стояла с открытыми глазами, спокойно.
Издали вещи принимают неясные очертанья — такова была сейчас комната.
Через короткое время, когда она переодевалась, по лицу Лукресии бродили первые страхи сна. С отекшим лицом, словно опять задремав, она поймала себя на том, что держит платье в руках — скорчившись, ослабевшая. Пошла в ванную и забыла зачем. Снова поплелась в комнату и остановилась на пороге.
Читать дальше