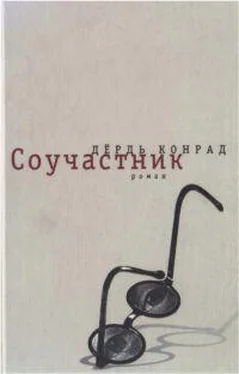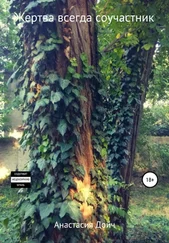У меня есть адресов, телефонов, мне еще есть куда пойти, но я никуда не пойду; что прошло, то прошло, и место ему — в прошлом времени.
В руках у меня — букет роз, я звоню, тишина; через стекло входной двери я вижу: Илона в своей комнате перегнулась через подоконник. Не нравится мне, что она высунулась так далеко; я высаживаю дверь. «Врываться силой, это ты умеешь! А прийти, когда я зову? Никогда! Убийца! Моя сестра отравилась». «Умерла?» «Может, выживет, может, нет». Ее сестра пришла однажды вечером, мы были в постели. «Можно мне тут остаться? Мне так одиноко». Она принюхалась. «Из дому?» «Нет, на кладбище собирал», — сказал я. Шара вздрогнула, потом попросилась к нам под одеяло. Два похожих лица у меня на плечах. «Никогда тебя такой не видела», — сказала Илона младшей сестре, и они поцеловались в губы. Я то приходил, то нет, потом мне пришлось уехать. «Когда вернется, отдай мне его на неделю, чтобы был только мой», — просила Шара Илону. «С нами можешь оставаться, но для личного пользования не отдам». «Я только это хотела услышать», — сказала Шара. На другой день какой-то полоумный каменщик на улице встал перед ней на колени: он только за руку мечтает ее держать, пока где-нибудь в подворотне справляет нужду. Шара пошла с ним в подворотню. Еще через день она проводила до дому пьяного старика, уложила его и, намочив полотенце, вымыла с ног до головы. Тот свалил ее на постель, дал ей несколько оплеух, ему почти удалось ее изнасиловать, но он прямо на ней и заснул. Шару стошнило, она подтерла пол, укрыла спящего и ушла домой. Целую неделю она сидела в своей комнате, думала. А вчера ночью черным мелком у сестры, на стене кухни, написала прощальное письмо, потом легла с ней в постель. Проснувшись, Илона обнаружила, что сестра не шевелится. Скорая долго не приезжала; врач сделал Шаре инъекцию, махнул санитарам, чтобы уносили, и сказал напоследок: «Пятьдесят на пятьдесят». «Чем могу служить? Раздеваться?» — спрашивает Илона. «Да». Она сбрасывает одежду: «Мерзкий ты тип, но по крайней мере не врешь». «Вру», — бормочу я себе под нос.
Дверь мне открывает глухой старик; увидев меня, безнадежно машет рукой. Я даю ему сигару, он, понюхав, оживляется. Под ногами у него нервно мечутся две кошки с белыми хвостами; он пинком отшвыривает одну — и снова машет безнадежно. Магда с кислым выражением, кривя нос, подходит ко мне. «Какая гадость, вся еда подгорела. Будешь есть?» «Буду». «Вкусно?» «Очень». «А если я туда плюну, все равно будешь?» «Все равно буду. Только зачем туда плевать?» Магда краснеет от негодования. «Что за тон! Пошляк! Ты на кухне у баронессы сидишь!» «Сама начала». «Терпеть не могу! Терпеть не могу, когда так нагло сваливают ответственность на других». «Я вино принес. Хорошее», — говорю я примирительно. Магда показывает фотографию, на ней какие-то кратеры. «Что это?» «Устье матки. Моей». «Ага, теперь узнаю». «Чего это ты узнаешь? Ты что, мне под юбку заглядываешь? Я в последнее время трусов не ношу». «Да не заглядываю я». «А почему не заглядываешь?» Я гашу в пепельнице сигарету. «Прямо как шофер грузовика! Брюхо набьет, вина выпьет, покурит — и лезет женщине под юбку. Ну берегись! Я сейчас закричу, отца позову». Сидя на табуретке, она наклоняется вперед, прислоняется лицом к моему плечу и визжит пронзительно; в кухню входит ее отец. «Он меня сексуально домогается. Ты адвокатом был, заведи на него дело!» Старик безнадежно машет рукой. «Дай ему сотню, на кино и на ужин», — командует Магда. Когда мы остаемся одни, она протягивает мне толстую тетрадь. «Это — письмо, прочитай, пожалуйста! Только сразу». Я читаю; текст — бред сумасшедшего. «Жалость к тебе, все зря. Следы ног: мой мозг в снегу. Захлебнись без меня! Растрогайся из-за каждого моего волоска!» Я чешу в затылке. Она выхватывает у меня тетрадь и навзничь валится на пол. «Я бездарна! Ты высасываешь мой мозг, а потом тебя нигде нет». Я ложусь на пол рядом с ней, опираюсь на локти, она в самом деле плачет: «Убирайся!» Я снова чешу в затылке и ухожу. На другой день отец ее так же недружелюбен, но когда я угощаю его сигарой, он оживляется.
«Минуточку, сейчас спущусь. Жди меня у служебного входа», — сказала час назад Эстер. От каждого скрипа двери мои зрачки напрягаются, но в проеме двери появляется то певица с большим животом, то танцовщица с оттопыренным задом. Я гипнотизирую лестницу: пусть она наконец принесет ко мне длинные ноги Эстер, чьи неестественные, потусторонние движения незабываемы, даже если они удались не так, как хотелось бы ей. В прошлый раз в подъезде какой-то человек бросился следом за ней и, просунув руку сквозь перила, сбоку схватил Эстер за щиколотку. Она взглянула на него, мужчина отпустил ее ногу и облизал свою ладонь. «С тех пор у меня щиколотки слабые». Консьержка ничем не может меня порадовать. «Да может, госпожа и не одевается вовсе. Загляните в репетиционный зал». В коридоре я слышу записанную на круговую магнитофонную пленку одну и ту же музыкальную фразу. Дверь полуоткрыта: Эстер в каком-то домашнем тряпье, между двумя зеркалами, выполняет, как заведенная, одно и то же беспощадно чистое па. Она смотрит на себя в зеркало и, увидев меня, падает на скамью: «Все-таки они делают, что я хочу. А ты чего хочешь, чудовище с невежественным телом?» Ее верхняя губа, немного вспотевшая, касается моего лица. «Это». «Льстишь мне?» «Льщу». «Правду говоришь?» «Правду». «Если бы тебе не хотелось здесь быть, ты ведь не пришел бы?» Я стою в двери душевой кабинки: большие груди ее под тонкими пальцами — словно толстый голый младенец. «Отец никогда не видел мать в таком виде. На белой материной ночной рубашке спереди была круглая дырка. Однажды утром я вижу: вокруг дырки — пятно крови. Отец умер рано: отравился грибами; мать грибы не ела. После смерти отца я целый год играла только под обеденным столом, в школе не произносила ни слова, напрасно учительница била меня по щекам. Мать таскала меня в балетную школу, каждый вечер я сидела против нее в трамвае измученная, с накрашенными губами, в розовом платье с оборками — чисто какая-нибудь старая курва. И ее, и танцы я ненавидела. „Ты будешь знаменитой“, — говорила она, а мне в куклы хотелось играть. Она и старшим братьям моим, близнецам, житья не давала; может, поэтому они стали такими: один — голубой, второй — бобыль, все высчитывает, когда придет конец света». На улице ее окружают ученики, но, увидев меня, отлетают в сторону, как упаковочная бумага. «Поедешь за мной», — таинственно говорит Эстер, садясь на мотоцикл, сверкающий, как вызов небесам; за ней хрипит и кашляет моя убогая колымага. Мы останавливаемся на горе, на какой-то кривой улочке, перед нами — фасад запущенной виллы, похожей на старуху учительницу, отравившую газом своего квартиранта. По винтовой лестнице, которая стонет, как умирающий, мы карабкаемся наверх, в мансарду. Из окна видно полгорода; я обнимаю Эстер, в комнате нет ничего, кроме кресла-качалки с продранной тканью сиденья. «Нравится? Хочешь, я брошу мужа и обставлю эту комнату? Переедешь ко мне?» «Нет», — отвечаю я. Тьма египетская. «Тогда уходи сейчас», — говорит она устало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу