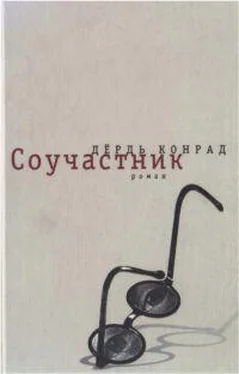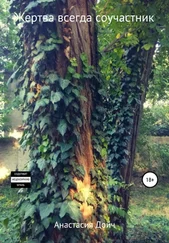21
Чтобы погасить торжественность ситуации, а заодно оторвать его от тревожных раздумий о составе правительства, я рискнул неуклюже пошутить. «А все-таки, дядя И., славно потрахаться — стоит куда больше, чем революция. Там только ребенок может родиться, а тут — куча гробов». Старик невозмутим. «Если жизнь станет свободной, у людей появится и охота детей делать». «Вы уже думаете, что будет потом?» «Приятно поразмышлять». «Есть у меня одна мечта. Знаете, что я попрошу в награду, когда вы станете помазанным отцом народа? Баржу на Дунае, с двигателем». «Зачем вам баржа?» «Выкрашу ее во все цвета радуги, украшу лампионами, музыка будет играть постоянно, и устрою я на нем плавучий бордель. Девицы — одна другой шикарнее, клиенты — друзья-приятели, и будем мы плавать туда-сюда по этой угрюмой Центральной и Восточной Европе на пестром, в огнях, плавучем островке легкомыслия, анархистская республика шлюх и брандахлыстов: так и выплывем себе из политики. Ведь стоит только на минуту представить, что мне грозит опасность получить министерский портфель, у всех у нас мороз по коже». «Одно ясно, — сказал старик, — генпрокурором я вас предлагать не буду. Может, учредить, специально для вас, министерство развлечений?» В этот момент я получил сзади такую затрещину, будто был уже на допросе. Кто-то прыгнул мне на колени, весело ощерил зубы, дернул меня за ухо; косматый, дурно пахнущий, попробовал бесцеремонно подобраться к спрятанной у меня в кармане фляжке. «Цыц, Аристотель!» — прикрикнул владелец машины на шимпанзе-алкоголика, собственность моего брата. «Хорошее, однако, начало», — пробормотал я себе под нос.
Год спустя мой следователь после двухнедельного перерыва вызвал меня из камеры; на столе — два телефонных аппарата, он и сам — напряженнее, солиднее. Ясно, что не он попросил поставить у себя в кабинете подслушивающее устройство, на старомодный манер вмонтированное в телефон. «Что случилось? Нас с вами увековечивают?» — показал я на второй аппарат. «Не понимаю, что вы имеете в виду», — ответил он, высокомерно поджав губы. «Я рад, что вас тоже держат под контролем. Если уж подслушивать, так или никого, или всех. Скажу больше: за вами бы я следил тщательнее, чем за самим собой, потому что я уже разоблачен, а вы — еще нет. Вот он, мой мозг, заглядывайте в него на здоровье, у нас с вами общих мыслей немного, а тех, что есть, я стыжусь. Но вы — вы пока еще интересное лакомство, вы, может, противник существующего строя, только переоделись полицейским». У меня даже настроение поднялось от сознания, что хотя бы магнитофонная лента сохранит что-то от унылого абсурда ситуации. «Я вызвал вас не затем, чтобы вы надо мной потешались, — строго сказал он, словно какой-нибудь измученный репетитор, который пытается возвратить рассеянное внимание ученика к материалу урока, — Давайте поговорим разумно», — без всякой надежды воззвал он. «Раз уж я ни с кем, кроме вас, не имею возможности разговаривать, то ладно, я и с вами готов потолковать хоть чуть-чуть разумнее. Но до сих пор вы мне ставили одни бредовые вопросы, так что, пожалуйста, спросите что-нибудь разумное». «Была ли у вас в октябре прошлого года какая-нибудь особая политическая линия?» «Я делал то, что делал. Это и была моя линия». «Вы во всем были согласны с Н.?» «Я и с собой-то не во всем бываю согласен. Мы были вместе». «Цитирую показания вашего брата». Я тяжело вздохнул. «Вот его слова: мой старший брат в присутствии Н. заявил, что половой акт ставит выше, чем революцию! Вы признаете, что говорили это?» «Идея мне довольно близка». «Еще раз цитирую подробные показания вашего брата: „При составлении списка членов будущего правительства мой старший брат не претендовал ни на один портфель. В знак признания своих заслуг он лишь просил баржу на Дунае, чтобы устроить на нем плавучий музыкальный публичный дом и пригласить туда, с целью прожигания жизни, своих друзей“. Вы признаете, что говорили подобное?» «Признаю: нет такого министерства, возглавить которое я бы хотел сильнее, чем получить плавучий бордель с музыкой». Следователь был доволен, меня же сжигала ярость на Дани с его болтливыми протоколами: он даже шимпанзе помянул с затрещиной. Лишь потом я узнал, что этими двумя фразами он вытащил меня из петли. Т. — полоумный, его даже как противника не стоит всерьез принимать, думали про меня. Из нашей компании повесили в основном тех, в ком пафос оттеснил чувство юмора.
22
Две недели суеты и неразберихи; мне ни разу даже выспаться нормально не удалось. Брат спал не больше моего — и при этом лихорадочно и нетерпеливо действовал. Организовывал комитеты, какие-то общества с головоломными названиями — и не мог насытиться ими вволю. Но поскольку печать одобрения чаще всего мог получить только при моем содействии, то бессовестно висел у меня на шее. И постоянно поносил меня последними словами: я был и мерзопакостный реформист, и либерально-бюрократическая размазня, и понятия не имел о том, что такое революция. «Что, если тебе лечь и поспать?» — умолял я его. «Речи об этом не может быть!» — тряс он головой — и засыпал сидя. Он и маленьким-то стеснялся спать; «Просто я думаю так, с зажмуренными глазами», — оправдывался он. Под видом правительственного задания я натравил на него аппетитную, пухленькую студентку, одну из тех, кто, в сапогах и с автоматом на груди, восторженно суетился у меня в приемной. В патрульных поездках по городу девушка требовала, чтобы он говорил ей о метафизике революции и о том, кого следовало бы поставить к стене, и, щебеча, так притискивала его к стене, что он едва мог дышать. Дани совершил то, чего, должно быть, требовала от него в тот момент всемирная история; девица изумлялась и выла — по словам брата, точь-в-точь как волчица в дебрях, нашедшая своего единственного; надо как-нибудь пойти послушать, как воет в дебрях волчица, которая нашла свою пару. Брат зажал девушке рот подушкой и в революционном экстазе повторил подвиг; но после этого бегал от зачарованно сопящей, толстой студентки так же, как я бегал от него; как оказалось, не меня одного нервирует, если от тебя все время что-то хотят.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу