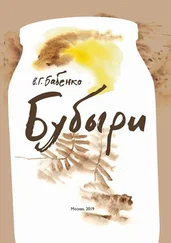День для наблюдений был явно неудачным, и я решил порыбачить, благо чукчи оставили мне одну удочку.
Подмосковный рыбак немедленно выбросил бы на помойку эту снасть — серый плохо оструганный полуметровый кусок доски с двумя вбитыми посередине ржавыми гвоздями, на которые была намотана помутневшая от времени, солнца и мороза миллиметровой толщины леска. Один ее конец крепился к доске, другой был увенчан небольшой блесенкой. Я потрогал тройник. Пальцы тут же побурели от ржавчины. Острия были тупые, как зубья алюминиевой вилки.
Я посмотрел на свою «удочку», на еле видимое в дожде и спящее подо льдом озеро и подумал, что никогда бы не пошел рыбачить, если бы не знал, что вчера именно этой удочкой, именно на этом водоеме водитель вездехода за час наловил дюжину рыбин.
Надев оба свитера, пуховку, плащ, поглубже натянув вязаную шерстяную шапку и сунув в карман перчатки, я спустился к озеру.
Дул противный ветер. Моросило, висели низкие безнадежные облака, туман закрывал весь горизонт. В общем, погода была самая что ни на есть мерзко-мартовская и с трудом верилось, что уже начало июня.
Лед на озере местами был серовато-синий и прозрачный, местами — как белоснежный песок, из которого выглядывали огромные голубые кристаллы, словно друзы аквамарина в слое бриллиантовой пыли; встречались изысканные лужайки из мелких голубых призм среди таких же, но белых: незабудки и ландыши.
В ледяном панцире темнели уходившие вниз бездонные скважины. Я постоял возле одной из них, думая, что лед такой толщины не успеет растаять за короткое чукотское лето. Потом, сообразив, что эта дыра — идеальная лунка, я размотал леску и попытался опустить блесну в воду. Но ветер так болтал сверкающую, словно елочная игрушка, металлическую рыбку, что она все время ложилась на лед. Я, присев на корточки, запихал приманку в воду и начал неторопливо взмахивать рукой, представляя, как в темной безжизненной глубине безнадежно дрыгается латунный листик.
Стоя посередине огромного замерзшего озера и поводя вверх и вниз плохо оструганным куском доски, я чувствовал себя очень одиноко.
Неожиданно за леску снизу резко дернули, в ответ я инстинктивно рванул удочку на себя, и через секунду на льду рядом с лункой бился мой первый полуметровый голец.
Настроение улучшилось. И тучи стали казаться повыше, и дождик пореже, и даже где-то далеко почудился несуществующий голубоватый просвет в облаках.
Я, взяв добычу, двинулся дальше по озеру, пихая блесну во всякую подходящую лунку: вытянутое, с зализанными краями цвета морской волны темное отверстие. Сначала следовали легкие ищущие движения на входе. Потом поиск в глубине — выше, ниже и, в завершение, всегда неожиданный резкий удар, а затем выплеск воды с бьющейся рыбой, которая, затихая, пульсировала на льду.
* * *
На обратном пути дорогу мне, словно черная кошка, перебежал песец, тащивший очередного лемминга своим щенкам. В тундре летал одинокий, отяжелевший от дождя шмель. Насекомое, видимо, в отличие от меня знало, что уже наступило чукотское лето и кочевало по прижавшимся к земле кустикам ивы, на которых распустились темно-розовые, тоже в каплях дождя, как и сам шмель, сережки.
* * *
Следующий день был таким же пасмурным. Рыбачить не хотелось, и я пошел к своим соседям — песцам.
Малыши, которые, как мне казалось, должны быть доверчивыми, при приближении человека спрятались в норе. Зато взрослый песец выглядел беззаботным. Он невозмутимо побродил рядом со мной, пожевал недоеденного своими отпрысками лемминга, спустился с увала вниз к озеру, попил из полыньи воды и вернулся. Я положил на землю ружье, снял рюкзак, достал оттуда камеру и сфотографировал этого тундряного шакала.
Песец тем временем подошел к моим лежащим на земле пожиткам и принялся их внимательно обнюхивать.
Я просидел у норы около часа, щенят так и не дождался, взял вещи и пошел домой, удивляясь тому, как сильно и двустволка и рюкзак пропитались запахом псины. Я даже не мог их заносить в палатку — так они благоухали. Оказалось, что проклятый песец успел пометить мочой чужеродные предметы. Я долго оттирал мхом ружье и рюкзак. Но всё равно в палатку их вносить было нельзя.
* * *
На третье утро моей тундровой жизни я, открыв глаза, увидел, что желтый потолок палатки уж очень убедительно лгал, что снаружи солнечно. Я прислушался — не было слышно шороха падающих капель. И стены палатки не шевелились. Я быстро расстегнул дверь и выглянул наружу.
Читать дальше






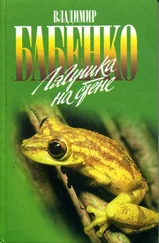
![Владимир Бабенко - Тень в тени трона. Графиня [SelfPub, 16+]](/books/419292/vladimir-babenko-ten-v-teni-trona-grafinya-selfp-thumb.webp)