Нику был виден дальний край первого ряда: там сидела леди Партридж, рядом с ней — Бертран Уради и его жена, а дальше виднелся строгий профиль Уани. Кэтрин, сидевшая за ними, прильнула к своему приятелю Джасперу, а с другой стороны как бы невзначай притулился к нему Полли Томпкинс. Дальше сидела Морган, девушка из правительственного офиса, которую Полли, видимо из соображений приличия, привел с собой. Чтобы взглянуть на саму Нину, Нику приходилось выворачивать голову и выглядывать из-за лысины Нормана Кента, который, по-видимому, к музыке относился не лучше, чем к тори, и потому беспрерывно ерзал на стуле. Он пришел в потрепанной джинсовой куртке — среди пиджаков и галстуков это смотрелось очень свежо. Пенни, сидящая рядом, то и дело прижималась к нему, то ли прося успокоиться, то ли в благодарность за то, что он согласился прийти. Интересно, подумал Ник, как ему нравится Нина; потом спросил себя, нравится ли Нина ему самому, и понял, что ответить пока не может — слишком оглушает и ошеломляет его музыка. Ясно, что выучка у нее великолепная — однако в игре было что-то бездушное, как у многих музыкантов из-за Железного Занавеса, безупречная техника которых сродни скорее гимнастике, чем искусству. Во второй части, печальной и вопрошающей, она не сбавила скорость, а эффекты так подчеркивала, что Ник задался вопросом, понимает ли она их смысл. Он заранее просмотрел ноты и кое-какую литературу, чтобы профессионально оценить игру Нины, и теперь ему вспомнилось описание этой части скерцо у Шумана: он говорил, что «оно полно нежности, отваги, презрения и любви». Эти слова снова и снова звучали у него в голове, когда он смотрел на точеный профиль своего любовника.
Окончив Шопена, Нина поклонилась и вышла, чтобы вернуться через пару минут. Юная и надменная, она не придавала значения аплодисментам и, быть может, не знала, что с ними делать. Джеральд хлопал так, как делал все остальное — шумно, уверенно и плоско. Один или двое встали, человек из правительства перевернул страницу и снова углубился в чтение, а дама позади Ника сказала: «Нет, к ужасному сожалению, на эти выходные мы едем в Бэдминтон».
Далее последовала пара «Неоконченных» Шуберта, до-минор и бурное ми-бемоль-мажор, требующее безупречной точности в исполнении. Эту вещь Нина днем сыграла раз десять и совершенно вывела Ника из терпения: но теперь ее руки порхали над клавишами, как автоматы, выверенными до миллисекунды движениями извлекая из инструмента серебристый гармонический поток. Пожалуй, она играла эту вещь как упражнение — и все же чувствовалось, что ее головокружительные пассажи живут какой-то тайной, ускользающей от слуха жизнью. В некоторых местах Ника охватывало легкое головокружение. Однако срединную часть, си-минор, она начала чересчур отрывисто, и впечатление было испорчено.
Ник поймал себя на том, что смотрит на мать Джеральда и отца Уани. Забавная пара: Бертран в прекрасной тройке сидит очень прямо и совершенно неподвижно, из уважения к правилам, принятым в высшем свете — о его нетерпении сообщают лишь подергивающиеся усики и губы, которыми он беспрестанно шевелит, словно посылая кому-то воздушные поцелуи. А рядом с ним склонила голову леди Партридж, вся в румянах и густо-коричневой пудре, словно только что вернулась с какого-нибудь горнолыжного курорта. Музыка ее явно не интересует. Время от времени она бросает осторожные взгляды на своего соседа и его пестро разодетую жену. Видно, что ей неприятно сидеть рядом с каким-то арабом (леди Партридж произносит «а-раб»), и в то же время греет мысль, что она оказалась рядом с миллионером.
Решено было, что концерт пройдет без перерыва, так что после Шуберта Джеральд встал и объявил своим обычным веселым и дружески-покровительственным тоном, тоном «первого среди равных», что сейчас будет исполнен последний номер программы — соната Бетховена «Прощание», а затем всех ждет выпивка и отличный лосось. Последняя фраза была встречена бурными аплодисментами. Снова появилась Нина, собранная и решительная, и Ник энергично ей захлопал. Когда она начала с первых трех нисходящих нот — «Le-be-vohl» — мурашки пробежали у него по позвоночнику. Человек из правительства поднял голову и покосился на него подозрительно. Но Ник уже забыл обо всем: звучало мощное аллегро, гудели стены, рояль содрогался на своих блокированных колесиках, Ник растворялся в музыке, плавал в ней, и тонул, и верил, что нет на свете жизни, кроме музыки — вот единственное, во что стоит верить. Не все, разумеется, разделяли его чувства: леди Кимболтон, неутомимая собирательница партийных средств, осторожно хмурясь, просматривала свою записную книжку и не сразу отложила ее и обратила на пианистку благодушный и покровительственный взор. С таким же непроницаемо-благодушным выражением лица могла бы она сидеть в церкви, на панихиде по какой-нибудь отдаленной и нелюбимой родственнице. Джеральд, сидевший на другом конце ряда, музыку любил: то и дело он кивал — не всегда в такт, словно вдруг озаренный какой-то мыслью, — но Ник понимал, что, когда все кончится, он встанет и скажет: «Великолепно, великолепно!» или даже «Славно, славно!». Даже «Парсифаль» у него оказался «славным», хотя, казалось бы, ради Вагнера стоило расщедриться хотя бы на «великолепного». Другие слушали внимательно и с чувством: в конце концов, это же Бетховен, да к тому же музыка с сюжетом, она рассказывает об отъезде, расставании и новой встрече, и просто невозможно не уследить за этой историей или ею не растрогаться.
Читать дальше
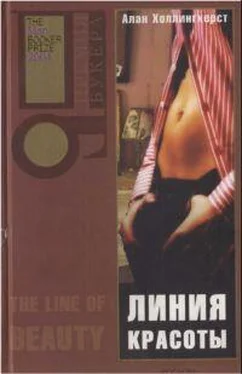
![Макс Фрай - Первая линия. Рассказы и истории разных лет [litres]](/books/26694/maks-fraj-pervaya-liniya-rasskazy-i-istorii-raznyh-thumb.webp)










