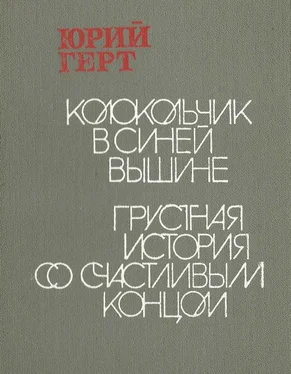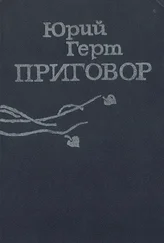Дочь у нее была на фронте, и Анна Матвеевна сама всю войну растила внука.
— Ты сама, сама слышала?..— говорила тетя Мус я, смеясь и ловя рукой соскальзывающее с носа пенсне.— Я тоже хочу собственными ушами услышать!..
— Да господи!.. Да там и сейчас передают!..
У нас, как назло, испортился репродуктор, и тетя Муся ушла к соседям — «собственными ушами» убедиться, что войны больше нет, что наступила победа...
Бабушка, притворив за нею дверь, вернулась, постояла посреди комнаты, потом вдруг охнула и опустилась на табуретку возле стола. Она сидела спиной ко мне — со своего сундука я видел только ее узкие (от давней дородности ее не осталось и следа), сутулые, мелкой дрожью дрожащие плечи.
Мне хотелось подойти к ней, попытаться утешить... Но что-то удерживало меня. Что-то в ее беззвучном, задушенном плаче вызвало во мне сопротивление, досаду. В этот день, которого так долго ждали, который мерещился всем, как праздник из праздников, нельзя думать, казалось мне, о чем-то тяжелом, печальном, это убавит, сотрет общую радость и торжество...
Но мысли мои сами собой возвращались к первому дню войны. К первому военному утру — такому солнечному, золотому... К тому, как мы собирались за билетами на новый американский фильм «Песнь о любви», и тут пришла Надя, Надежда Ивановна, зубной врач из санатория «Наркомзем», и сказала, моргая светлыми ресницами: «А вы еще ничего не знаете?..» И мы побежали к парикмахерской слушать радио — там, на столбе, висел перепончатый, как крылья у летучей мыши, громкоговоритель...
Я лежал на сундуке, отзывавшемся на каждое мое шевеление всем своим скрипучим нутром, и твердил, повторял на разные лады:
— Победа... Победа... Победа...
— Р-рахиль...— нерешительно произнес Виктор Александрович, выйдя к умывальнику, который стоял в нашей комнате. Он был, против обыкновения, в подтяжках, из-под распахнутой на груди рубашки белой пеной пузырились курчавые седые волосы.
—Р-рахиль...— повторил он, заикаясь больше, чем всегда, и глядя не на бабушку, а куда-то в пол, себе под ноги. — Ведь не т-только у вас од-дной, Р-рахиль... Не только у вас,од-дной...
Вернувшись от Анны Матвеевны, тетя Муся объявила, что все так, все правильно: Германия подписала капитуляцию, нынешний день — 9 мая — объявлен всенародным праздником Победы...
Мы сели завтракать. И было странно, что на столе — та же, что и вчера, потертая, в фиолетовых кляксах клеенка, и та же селедка, густо политая уксусом и припорошенная луком, и тот же чуть желтоватый, жидкий чай... Не те вилки, казалось мне, должны лежать на столе, не те ножи, не те ложки... И даже когда из глубины буфетного чрева появилась бутылка прошлогодней вишневой наливки, все равно — и это было не то, не то...
Я обрадовался, когда за мной прибежал Мишка Воловик, и мы помчались в город.
В этот день было не усидеть дома, в четырех стенах. Неудержимо хотелось простора, открытого со всех сторон, хотелось высокого, до рези в глазах синего неба, хотелось многолюдья, улыбок, громких голосов...
Мишка сказал, что на площади перед крепостью назначен городской митинг, и вот мы неслись туда, боясь, как бы не опоздать.
Мы боялись, как бы не опоздать, как бы чего не упустить. Чего-то главного. Исторического. Такого, что случается раз в 1000 лет. Ведь сегодняшний день был из тех, какие случаются раз в 1000 лет. Или раз в 2000. Или вообще раз за всю историю земли.
Мы ждали чудес в этот день. Мы верили — в этот день псе возможно, любое чудо... Если бы слепые — прозрели, глухие — услышали, хромые и безногие пустились в пляс, мы бы не удивились. Не знаю, как Мишка, но я вышел из дома с таким чувством.
Помню прохладное, полное утренней свежести небо, легкие волокна перистых, тающих в бледной синеве облаков искрящийся, весь в золотых пылинках, воздух...
У нас, на окраине, улицы были еще малолюдны, но окна в домах были распахнуты настежь, отовсюду неслись звуки радио, марши, песни, снова и снова передавали сообщение о подписанной вчера безоговорочной капитуляции. Раздернув марлевые занавески, раздвинув горшки с пунцовыми геранями и колючим столетником, люди выглядывали из окон, пытливо осматривали улицу, прохожих, как будто искали для глаза подтверждения того, что слышали их уши...
Посреди мостовой, забыв обо всем, стояли в обнимку и плакали две женщины. В нескольких шагах от них шофер, высунув голову из кабины, терпеливо ждал, когда они опомнятся и уступят дорогу его трехтонке. Какая-то бабка крестилась на видневшуюся невдалеке церковь. Между домами на пустыре, мимо которого мы проходили, были вырыты щели, бугрились земляные валы, приглаженные дождями и ветром. Ребятня еще играла там в штурм Берлина, слышались крики: «Сдавайся!.. Руки вверх!.. Хенде хох!..»
Читать дальше