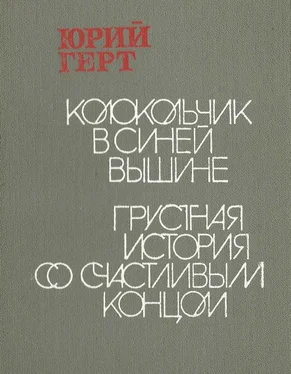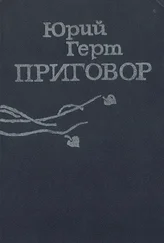Я вернулся и сел на свое место, рядом с Мишкой Воловиком.
Все молчали.
— Так что же?.. Кто скажет, какая здесь ошибка?.. Так-таки никто ничего не заметил?.. Так вы всегда и слушаете: в одно ухо влетело, из другого вылетело... Ты, Гуськов?.. Нет? Аракелянц?.. Тоже нет... Нариманов?.. Мажуровский?.. Может быть, Воловик нам поможет?..
Мишка тяжело заворочался, заскрипел партой.
— Нет, не помогу,— пробормотал он.
— Не поможешь... Ну, что ж, тогда мне самой придется сказать.
Впервые за весь урок Марья Терентьевна хотя бы вскользь, но все же взглянула на меня.
— Это как же так?..— сказала она.— Это где ты увидел Червяковых и Башмачкиных?.. В наше-то время?..
Я молчал.
Не мог же я ответить, что видел их здесь, в этом классе. Или — что прозвучало бы уж и вовсе глупо — что она сейчас разговаривает с одним из них...
— Это как же так, позволь тебя спросить?..— повторила она. И пошла, пошла — как по нотам: про нашу армию, которая несет Европе свободу, про подвиги на фронте, про Александра Матросова и Юрия Смирнова...
Как будто я сам не думал о них, когда писал сочинение!»
— Ты понимаешь, что ты такое написал?..
— Понимаю,— сказал я, помолчав.
— Ты написал, можно сказать, превосходное сочинение — и сам все испортил одной фразой! Ты написал, что Червяковы и Башмачкины брали Белград, освобождали Будапешт!.. Вот что у него выходит! — обратилась она ко всему классу.
— Дописался!..— послышалось с разных сторон.
— Я этого не писал,— сказал я.
— Еще бы ты это написал!.. Но выводы, выводы-то какие напрашиваются из того, что ты написал?..
Под ее взглядом я чувствовал, как стремительно уменьшаюсь в размерах. Сокращаюсь. До размера с котенка. Потом — с мышонка. Потом — с таракана, который вот-вот юркнет в щелку за плинтус...
Я стоял и думал про Александра Матросова, про Юрия Смирнова.
Я не хотел превращаться в таракана.
— А ты, оказывается, упрямый парень,— сказала Марья Терентьевна.— Ты, значит, так-таки и не желаешь признать свою ошибку?.. А ты, Горемыкин, как полагаешь, существуют сейчас Червяковы и Башмачкины или нет?..
— Существуют,— сказал Горемыкин. И тут же, под смех класса, поправился:— То есть не существуют.
— Ох ты горе мое, горюшко,— покачала головой Марья Терентьевна.— Так все-таки — существуют или не существуют?
— Не существуют,— сказал Горемыкин, поняв, наконец, чего от него хотят. Но при этом так боязливо покосился на Утконоса своими круглыми рачьими глазами, что класс дрогнул от хохота.
Марья Терентьевна тоже улыбнулась и тут же согнала улыбку с губ:
— А что думает Шорохов?..
Шорохов был наш отличник, впоследствии мы его называли «луч света в темном царстве», а в десятом — «надежда школы», это когда он шел на золотую медаль. А пока он тоже подавал большие надежды, ходил в курточке, застегнутой глухо до самого горла, с двумя карманами на груди. И одном он носил расческу, которую часто вынимал и причесывал светлые волосы, а в другом — небольшой блокнотик. Говорили, он записывает в нем свои отметки, но в точности это не было известно, Шорохов никому его не показывал.
Он рассудительно объяснил, что для эпохи Гоголя и Чехова такие образы, как Червяков и Башмачкин, были типичны, и потому великие классики их отразили. А после Октябрьской революции создались новые условия, новая жизнь, и Червяковым и Башмачкиным нет в ней места. Их значение в том, что по ним мы представляем себе далекое прошлое...
— Правильно,— сказала Марья Терентьевна.— И нечего тут выдумывать, путать себя и других.— При последних словах она посмотрела в мою сторону.
И еще двое или трое высказались в таком же духе. А может быть, и не двое или трое, а кто-нибудь один, кого Марья Терентьевна подняла с места, она это любила, чтобы все высказывались, проявляли активность. Но мне казалось, весь класс против меня, и я не знал, к чему было затевать этот балаган, читать мое сочинение вслух... Этого я не мог понять; я сидел, смотрел в черную, всю в царапинах, ножевых порезах и шрамах крышку парты — и кровь звенела у меня в висках.
Но тут случилось неожиданное.
Володя Шмидт — в ту пору мы еще не были друзьями, подружились мы позже, а тогда только-только приглядывалась друг к другу — Володя Шмидт, о нем речь впереди, поднялся и с туманной, мутноватой своей улыбочкой (в том смысле мутноватой, что никогда было не угадать до времени, что за ней прячется), сказал, что не знает, как насчет прочего, тут Шорохов, может, и прав, а вот что в классе у нас предостаточно Червяковых — это уж точно...
Читать дальше