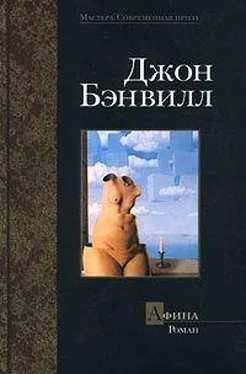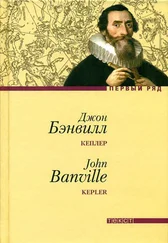Этот поцелуй. Ну, не знаю. Действие его на меня длилось много дней, даже недель. Я чувствовал себя разбитым, хотя и не вдребезги, я только весь пошёл тонкими трещинами и щелями и качался на постаменте, как ледяная скульптура, по которой она, подбежав, с размаху звонко ударила молотком. Я опять и опять переживал это краткое прикосновение, испытывая сумрачную, опасливую радость, поворачивая его в памяти то так, то этак, разглядывая со всех сторон. Иногда я доводил себя самокопанием до того, что начинал вообще сомневаться в реальности этого события. Я так давно не целовал женщину, что уже и забыл, как это бывает. И потом, я в таких делах вообще старомоден. Теперь мальчишки и девчонки (я всё ещё считал её гораздо моложе, чем она была на самом деле) целуются чуть что. Куда ни взглянешь, обязательно увидишь целующихся — на улице, в автомобиле, даже на велосипеде. И это не скованные, неловкие объятия времён моей молодости, а по-настоящему, смачно, с открытым ртом, притираясь животами. Я знаю. Я следил за ними. (Удивительно, что меня не арестовали.) И конечно, я не допускал, что это могло значить для неё так же много, как для меня; язык пламени, лизнувший и опаливший мою пожилую плоть, на её молодой шкурке, пожалуй, даже и не почувствовался. Её поди постоянно целуют, ей это раз плюнуть. Да, неумолимо твердил я себе, для неё это ничего не значит, она и внимания, конечно, не обратила, и я, хорошенько встряхнувшись, как собака, когда выйдет из воды, снова принимался за дело, чтобы тут же опять, и с удвоенной страстью, погрузиться в эти мучительные, безумные, безнадёжные фантазии. Лёд, я сказал? Я сравнил себя с колотым льдом? Гораздо больше это походило на жидкую грязь, разогретую, вскипающую, мысли про А. поднимались со дна и звучно лопались на поверхности, а в глубине уже собирался новый пузырь мутных, бессмысленных мечтаний.
Надо сказать, что А. играла в моих мыслях роль более или менее второстепенную, а в центре находился я сам. В конце-то концов, что я о ней знал? Это была наша вторая встреча, не считая фрагментарного мимолётного видения сквозь крошащуюся штукатурку фальшивой стены в первый день, как я вошёл в этот дом; даже после того как я её поцеловал, я не мог ясно представить себе её лицо, а только в самом общем виде. Я понимаю, что говорю, отдаю себе отчёт, как выдаю себя во всём своём ужасном эгоцентризме. Но так это было в первое время; словно глубокой тёмной ночью в пустом доме передо мной вдруг предстало мерцающее видение, и у меня перехватило дух, но оказалось, что это всего-навсего моё собственное отражение в затенённом высоком зеркале. И много времени должно ещё будет пройти, прежде чем серебряное покрытие на задней стороне этого зеркала начнёт облезать и я смогу увидеть за стеклом её или ту версию её, которую она позволяла мне видеть.
Я чувствовал себя последним дураком. Я казался себе нелепой фигурой, вроде деревенского дурачка, грустного и смешного, но в то же время и немного умилительного. Рёбра мои болели от непрестанного усилия сдерживать в груди торжествующий вопль. Сам город расцветал, как роза под лучами моей новообретённой эйфории. Я стал заговаривать на улицах с незнакомыми людьми; я мог бы сделать что угодно — заказать в «Лодочнике» выпивку для всех присутствующих; шлёпнуть Квазимодо по горбу и потащить его к «Святому Габриелю» распить на двоих бутылку шампанского. И всюду была она, само собой разумеется, она или, во всяком случае, её призрачный образ: лицо, мелькнувшее в толпе, фигура, скрывшаяся за углом или одиноко и недвижно стоящая на империале автобуса, а автобус увозил её от меня по серой пустыне широкой, продутой ветром и усеянной сухими листьями аллеи. Я проявлял чудеса ошибочного узнавания. Помню особенно один случай, когда я, запыхавшись, догнал чёрное платье и положил ладонь на вроде бы её плечо, а в следующую минуту должен был извиняться и кланяться перед коротышкой-военным с нафабренными усами. Как мало участвовала во всём этом мысль, вот что меня сейчас изумляет. Под мыслью я понимаю не глубокое и вдумчивое рассуждение, взвешивание противоположностей и тому подобное, а простой, житейский ум, почти неслышный голос, отзвук давнишних родительских поучений и предостережений с тех ещё времён, когда меня учили стоять, ходить, говорить. Сознание моё превратилось в болото, в трясину, по которой если вздумаешь пройти там, где кажется твёрже, обязательно провалишься до живота. И всё это, прошу учесть, последствие единственного и, казалось бы, ничего не значащего поцелуя. Да, вот уж дурак так дурак!
Читать дальше