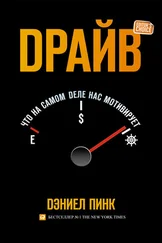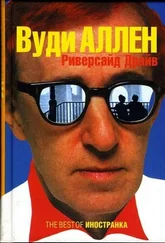— Но, может быть, все к лучшему? Что, если бы мы легли тогда в постель? На том могло и кончиться.
— Слушай. Сообщу тебе новость. За этим я и приехал. Марша не только билеты порвала. Она порвала картины. Искромсала. Весь цикл. Всё, что мы сделали за последние несколько лет.
Лицо у Мэдлин стало совершенно белым. Как будто я написал ее портрет известью. Она поднялась с дивана и отступила на шаг. Потом, согнувшись вбок, еще на шаг. Я не шевельнулся. В первобытной части моего сознания сама Мэдлин — бескровная, безжизненная, накренившаяся — соединилась с тем, что сделала из ее образа Марша. Симпатическая магия все-таки сработала.
— Мэдлин…
— Только не говори. Ладно? Ничего не говори. У меня такое чувство, будто меня выключили. Выдернули провод из моей жизни, как ты — из проигрывателя. Моей жизни! Ты никогда не понимал, до чего стандартно я представляла ее себе: трое пупсиков, шестеро пупсиков, палисадничек. Яблочный, будь он проклят, пирог. И я пыталась. Два брака! Бедный Франклин! Милый бедный Нед! Помнишь его в тот вечер? Он прятался в лимонной роще. И поверь, достаточно много было мимолетных встреч с тобой, на разок, на бегу. Знаешь, что я думала? Чем утешалась? Я думала: зато у Ричарда есть всё — и жена, которую — не ври мне — ты обожаешь. И запоздалое чудо — дети.
Говоря это, она пятилась, медленно, шаг за шагом.
— Но и у меня что-то было. Я не чувствовала себя… обделенной. Да, для вечности Мэдлин ничего не оставит. Ни мумсиков. Ни пупумсиков. И вряд ли меня запомнят по мыльным операм и слезоточивым драмам, в которых я играла последние сорок лет. Отлично. Пусть так. Вот мое утешение: я знала великого человека. Я была его… Дорой? Подожди, это у Фрейда или Пикассо? Ольга! Жаклин! Саския! Это была жена Рембрандта. Голая, в воде. Старше и даже толще меня. Ты ни разу за всю жизнь не написал себя, дорогой. Я буду твоим автопортретом, Господи! Какой почет! Считаю честью для себя жить в твоих картинах. И пусть Пикассо был говнюком, примерно таким, как ты.
Она сделала последний шаг назад и теперь стояла в дверях. Глаза ее превратились в сплошные зрачки, словно все функции мозга прекратились. Потом она повернулась, вышла на балкон и наклонилась над перилами.
— Моя жизнь! — выкрикнула она.
Что означал ее крик — тоску по несостоявшемуся? Или это была фраза из пьесы? На секунду меня охватил ужас — показалось, что она хочет броситься на камни внутреннего дворика. Я переместился на балкон. Света здесь было вполне достаточно, чтобы разглядеть ее щель и водоросли, высовывающиеся из-под подола. Я скинул туфли, я спустил штаны. Я стал сзади нее и стянул плавки.
— О, это ты? — пробормотала она как бы с удивлением.
Я наклонился вперед, просунул обе руки под ее свитер и провел ладонями по спине. Потом они спустились по ребрам и поймали повисшие груди. Я почувствовал, как затвердели соски и поднялись, словно шапокляк фокусника.
— Мы их снова напишем, — сказала она. — Все до единой. Я лягу для тебя в ванну. Сяду для тебя на унитаз. Буду задирать ноги. Ты напишешь мою грудь красивой? Красивой, как у русской актрисы.
Я отступил на полшага, зацепил пальцем резинку лиловых трусов и сдернул их вниз. На меня уставились ягодицы и улитка ануса. Отверстие моргало, как затвор фотоаппарата. Я раздвинул его большими пальцами и прислонился.
— Нет, не сюда, — сказала она и вздернула круп, так что внизу открылся стручок полового органа, уже смазанный. Я поместился внутрь. Она сказала:
— Наконец-то.
Я углубился в тоннель. Она со стоном дернулась навстречу, и мы стали звучно шлепаться друг о друга. Я опирался на ее спину. Волосы у нее висели, как черная стирка. Я перевел взгляд на океан и больше не опускал его. Все это время земля, вероятно, вращалась, потому что луна и ее серебряная дорожка давно исчезли.
— Ах, Ричард, мальчик мой! Моя единственная любовь! — Это когда я бесплодно излился в нее.
Она выпрямилась. Сошла с фиолетовой кляксы — трусов. Потом повернулась, прикрывшись ладонями и сдвинув колени, как на «Сентябрьском утре» [105] Картина французского художника Поля Шаба (1869–1937).
; нет, как на ренессансной картине, может быть, Мазаччо — с Евой, познавшей добро и зло.
Я натянул брюки. Вставил ноги в туфли. Потом вошел в комнату и принялся за работу. Очистил стол. Сбросил несъеденное в мусор, ополоснул столовые приборы. Заткнул открытую бутылку вина. Выключил верхний свет.
— До чего деловитая домохозяйка.
Мэдлин легла на диван. Укрылась бледно-зеленым покрывалом, которое было сложено с краю. Укрылась до подбородка.
Читать дальше