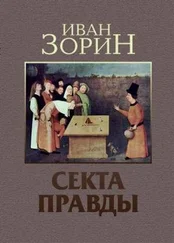Как жить? Никому не нужен, ничего не умею.
— У нас испокон веку важно, не что умеешь, а кого знаешь, — успокаивает Женька. И, жуя травинку, советует: — У тебя гены хорошие — продавай…
— Это как?
— Дай объявление: «Помогаю одиноким дамам обзавестись детьми. Тайну гарантирую, на отцовство не претендую».
Я смотрю, как блестят его наглые глаза, как равнодушно перекатывается во рту травинка, и думаю, что стыд не лук — глаз не ест.
— Таких охотников — пруд пруди, — отмахиваюсь я, — найдутся помоложе.
— Молодые не в счёт, — парирует Женька, — неизвестно, что из них выйдет, а ты — товар лицом!
Женька остроумный.
Едят всё подряд, с хрустом грызут мелкие, «китайские» яблоки, пыльные, сорванные у дороги. На курево не тратятся: в урнах после футбола полно жирных «бычков».
А чем мы отличаемся от бомжей? Тем, что есть место, где переночевать?
— Пришёл мужик в бар: «У меня стакан говорящий!» «Как это так?» — удивился бармен. Мужик: «А ты, давай, наливай в него». «Сколько наливать-то?» «Так стакан скажет!» — Женька куражится. — У нас, русских, всё немерено, и водка за столовое вино идёт, она в старину «белым чаем» звалась!
— Нашёл, чем гордиться, — сплюнул Алексей Митрофанович. — Алкаш на алкаше, взять хоть нас с тобой — а туда же… — Он смачно выругался. — Пороков стыдиться надо, а у нас отгрохал палаты каменные — завидуйте!
И завидуют. Не порицают, а завидуют! Сыт, пьян и нос в табаке — вот оно, наше счастье…
Женька окрысился:
— Чего-то я не пойму, Митрофаныч, ты нами брезгуешь?
А через полчаса уже хлопал по плечу осоловевшего Кожару:
— Так-то лучше, чем морали читать…
В поместье Аракчеев завёл такие порядки: если крепостная рожала сына, с неё не брали штрафа, если дочь — взимали малый штраф, за выкидыш и мёртворожденного — штраф средний; если же крестьянка оставалось пустой, «яловой», как говорил граф, на неё налагали большой штраф и сверх того — десять аршин холста.
И так каждый год.
В конце недели, расстелив на траве махровое полотенце, нежатся под солнцем намазанные кремом «бальзаковские» женщины.
Я подмигиваю Женьке.
— Да ну их, — отворачивается он. И в который раз жалуется, что у него с «бабой» разговоры не клеятся. — Одни тряпки на уме, а постель надолго не удерживает…
— Сами импотенты! — слышит его перегидрольная блондинка, почерневшая, как баклажан. — И денег — кот наплакал…
— Что же ты деньгами всё измеряешь, — вступает Алексей Митрофанович.
— А ты нет? — одёргивает его блондинка. — Да мужики хуже нас — проститутки!
Товарки хихикают.
— Вот, блин, феминистки, — скалится Женька.
«За неимением гербовой бумаги пишут на простой», — гласит российский чиновничий циркуляр.
Когда не могли разжиться бутылкой, переходили на «аптеку» — пили одеколон, настойку боярышника, какое-то спиртосодержащее средство для ращения волос. Деловито разводили их пепси-колой, ржали, что американская зараза отбивает любой запах, что от неё балдеешь больше, чем от водки, и ею хорошо чистить унитаз. Пока не сморит жара, разгадывали кроссворды, обсуждали футбол.
— Памятник Стрельцову-то, — подбрасываю я тему, — птицы загадили.
— А мы, между прочим, с ним в одни годы сидели… — встрепенётся Женька. — У нас сначала искалечат, потом — увековечат…
Или слушали Алексея Митрофановича.
— Люди, как тараканы, — вздыхал он, — только вреднее. И конец им уготован самый, что ни на есть подходящий для их бессмысленной жизни: отбегался — и всё! Никакого бессмертия, никакого Царствия Небесного…
А если никто не откликался, заходил с другого боку.
— Трудно прожить свою жизнь, — делая ударение на «свою», задирал он вверх палец. — А чужая — короче…
— Это как? — не выдерживал я.
— А так, что перед нами множество путей, и только один — настоящий, самый длинный. Но мы, сворачивая не на ту дорогу, раньше срока упираемся в тупик! Вот библейские пророки из множества судеб выбирали свою, оттого и жили по двести лет…
— Какие там двести лет! — теряю я интерес. — Свой-то век не знаешь, как скоротать…
Алексей Митрофанович обижается и поддевает:
— А за что ты мать не любишь?
Все давно нащупали друг у друга больные мозоли, и я тут же завожусь, пробуя объяснить, что мать живёт так долго, что уже не знает зачем, что часы давно превратились для неё в бесполезный механизм, но она по-прежнему заставляет вытирать ноги в прихожей.
— Она эгоистична, глупа и цепляется за жизнь… — вспоминаю я вереницы врачей, четверть века составляющих её семью. — Но хуже другое: с годами я делаюсь таким же, и оттого ненавижу её еще больше… По-вашему, я выродок?
Читать дальше