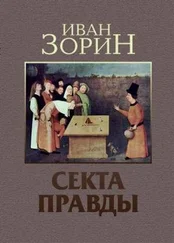Наш концлагерь в Германии был пересыльным, но для нас он стал пунктом назначения. Прогнали под его железными, арочными воротами, как под ярмом, и разместили в бараках, построенных на скорую руку. Это не был лагерь уничтожения, он даже названия своего не имел, однако в общей могиле там сто тысяч наших полегло, и, как потом известно стало, только каждый десятый из него вышел. На советских пленных Женевская конвенция не распространялась, и поселили нас по окраинам, отделив колючей проволокой от центра. А там — англичане, французы, голландцы… За переход — расстрел. Но мы всё равно ходили. Им Красный Крест маргарин поставлял, сигареты, лекарства, а с нашей баланды ноги протянешь. Вот и выпрашивали: французы, открытые, общительные, охотно делились, а англичане высокомерные, только окурки бросали, как собакам, но мы и им были рады. А случалось, еду выигрывали. Так организовали раз шахматный турнир, от каждой страны по команде, и я за наших на первой доске. От ветра качает, мысли разбегаются, а заставляешь себя думать, европейцы сытые, ходы с улыбкой делают, однако ж, мы победили. Охраняли нас не ахти как, а куда бежать — кругом Германия! Когда же случалось, то беглецов даже не ловили — их сдавали деревенские. Если сами не расправлялись, приводили обратно на лютую казнь. А правили в лагере уголовники, которых немцы назначили, чтобы нас было легче в узде держать. Они люди опытные и к нарам привычные, своих людей на кухне поставили. Те последние крохи присваивают, а попробуй, пикни. Я в лагере сорок восемь килограммов весил, доходяга, кожа да кости. Уже и вставать не мог, дистрофия развилась. А спас меня от смерти товарищ мой, Саша Зубайдуллин, татарин, раздобыл где-то сырой картошки, с этой картошки я и пошёл на поправку.
Татары вообще народ храбрый, это у них в крови. В сорок первом узбеки и таджики при обстреле в воронку собьются, так что их одним снарядом накрывало, молятся, и никакими силами не растащить, а татары держатся наравне с нами. Зубайдуллин ко мне в пятьдесят третьем приезжал. После смерти Сталина тогда амнистию объявили, и уголовники посреди бела дня лестницу приставляли и на глазах у всех вторые этажи чистили. Правда, Москва от них недолго страдала, спасибо МУРу. Так вот, спустились мы с Сашей в пивную выпить за встречу, а там дым коромыслом, разный люд гуляет. Только сели за столик, и вдруг крик: «Сумочку украли!» Женщина растерянно озирается, бормочет, что в кошельке все деньги. А лица кругом наглые — поди возьми, да и кто сумочку «прижал», одному Богу известно. И тут Зубайдуллин, а он ростом метр с кепкой, берёт со стола нож и — к двери. Никого, говорит, не выпущу, пока сумку не вернёте! Мне страшно, а что делать, пришлось рядом встать. Угрозы посыпались, а мы в ответ скалимся. Может, испугались, может, уважение к фронтовикам свою роль сыграло — на нас форма была военная, — одним словом, нашлась сумочка.
А в лагере я за четыре года всякого навидался. В сорок втором, седьмого ноября, построили нас, как всегда, на плацу для утренней проверки. Холодно, лица угрюмые, в пяти шагах немцы с овчарками. И вдруг перед строем выходит высокий человек в полковничьем кителе и громко обращается: «Поздравляю, товарищи, с праздником Октябрьской революции!» Геройство необыкновенное, думали, всё, пропал полковник, однако немцы то ли не поняли, то ли простили за мужество. Это был Константин Боборыкин. Говорили, что его специально к нам забросили для агитации — тогда уже власовцев начали вербовать, — только я в это не верю.
Как я уже говорил, лагерь наш был пересыльным. И вот ночью раз в барак к нам доставили молодого парня, бросили на соседние нары. Разговорились, оказалось, он из казаков раскулаченных, отца сослали, хозяйство разорили. Он в первые же дни войны немцам сдался, уж больно хотелось отомстить. Записали его добровольцем, он в бой рвётся — не удержать. Когда наши стреляют, немцы в окопах прячутся, а он сидит на виду, курит. Дослужился до унтер-офицера, крест железный получил за то, что у нас в тылу «языков» брал. А когда поехал за ним в Берлин, дорогой много чего насмотрелся, зверств, которые немцы вытворяли. Ну, по случаю награды напился где-то в ресторане — и расстрелял портрет Гитлера. Его в лагерь. Ничего, говорит, сбегу. А я думаю: куда? Тебя наши сразу расстреляют. Промолчал, а утром, чуть свет, его перевели, и больше мы не встречались.
Действовало в лагере и подполье, но ничего героического мы не совершали: как могли, поддерживали больных, упавших духом. В конце сорок четвертого немцы из пленных татар набирали бойцов в РОА. Решили послать к ним Зубайдуллина. Он на своём языке их стыдить начал, а главное, говорит, наши близко, лучше потерпеть, чем под трибунал пойти. Рисковал страшно, если бы хоть один донёс, расстреляли бы. Разагитировал он своих, однако до начальства всё же дошло, и мы его последние месяцы до освобождения прятали. Раз, когда ночную проверку устроили, он под нары забился — тут его рост выручил, в другой раз в нужнике переждал. А всё — на волосок от смерти. Да мы все под ней ходили.
Читать дальше