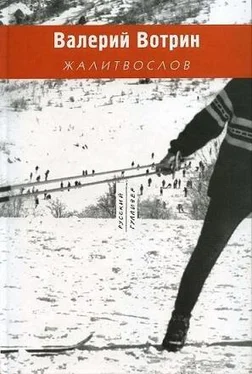Это, видимо, задело Камарзина.
— Неправда это, — горячо заговорил он. — Я сам сдался. Они уже были готовы меня всего изрешетить, а я крикнул: «Сдаюсь!» Потому что это я, я один в ответе. Я так им и сказал… а они все сообщников добиваются. Нет у меня сообщников. Вера была одна, да уж нет ее.
— Что же вы тогда не хотите читать?
Камарзин насупился.
— Как вы не понимаете? — произнес он. — Он же того и добивается. Нужно было убивать человека, чтобы доделывать все за него. Извините, Сергей Михайлович, тут я — пас.
Сделав над собой усилие, Кметов накрыл его руку своей. Камарзин дернулся.
— Нет!
— Прошу вас, Алексей, голубчик, — попросил Кметов. — Я не смогу.
— А я смогу? — зло крикнул Камарзин ему в лицо. — Он же только того и ждет!
— А вы возьмите с собой мелок, — уговаривал Кметов. — И вообще, чего вам бояться? Он ведь не поднимется, потому что побоится народного слова. Это пустая формальность, понимаете? Отчитаете — и вас отпустят. А не то — повесят в этой самой крепости.
— Хорошо, — внезапно сказал Камарзин. — Если вы дадите мне одно обещание.
— Какое?
— Я стану читать эти три ночи, — заикаясь, проговорил Камарзин, — если вы на следующем слушании зачитаете все написанные не по форме жалитвы и объявите анафему правительству.
Кметов остолбенел. Меньше всего ждал он такого условия.
— Правительству? — проговорил он.
— Обещаете?
Кметов медлил. Баба Таня мелькнула у него в голове. Быть ближе к народу…
— Обещаю, — выдавил он из себя. — А вы?
— Обещаю, — твердо сказал Камарзин.
В эту минуту в комнату вошел жандарм.
— Свидание окончено!
— Фон Гакке сказал про вас: «Он знает…», — сказал Камарзин, вставая. — Что он имел в виду?
Кметов тоже поднялся, взял свой портфель.
— Я знал, что вас можно уговорить, — сказал он, пряча глаза. — Наверное, это.
— Помните, — сказал Камарзин, и тут впервые страх промелькнул в его глазах.
Кметов, чувствуя громадное облегчение, кивнул ему и вышел.
Чуть свет ребенок за стеной проснулся и захныкал. Он был голоден и, словно не понимая, что перешел из одной яви в другую, где нужно есть, чтобы существовать, хныкал сначала нерешительно, как будто сомневаясь в своем праве на материнскую грудь. Его тонкий голос делал краткие, совсем осознанные паузы, предназначенные, казалось, для того, чтобы вслушаться, выяснить, услышали ли. После каждой паузы голос его становился все громче и капризнее, пока в какой-то момент не зашелся в захлебывающемся вопле: маленькое существо, отбросив в сторону всяческие экивоки, желало утолить свой голод. Скрипнула кровать, кто-то с вздохом прошел за стеной, заговорил ласково, и тотчас же все это — ласковое «гули-гули», хныканье, скрип кроватки, — потонуло в новом звуке. Был в нем тот же голод, то же нетерпение, та же жажда существовать, но только будто пропущенные сквозь огромный динамик, — на ближней фабрике ревел гудок, созывая людей на работу, и торопливо стали зажигаться окна в соседних домах. Кровать за стеной крякнула, спустя короткое время, когда гудок уже смолк, в ванной кто-то зашелся тяжким утренним кашлем, вполголоса, привычно, ругнул треклятый сок. Был шестой час утра, суконно-серого и волглого.
Неподвижно, с открытыми глазами, лежал в светлеющих сумерках Кметов на своей кровати и думал о том, что еще совсем недавно никто не подозревал о существовании маленького голодного человеческого дитяти. А теперь оно заявляет о своем появлении в мире так громко, что беспокоит за стеной соседей, и те начинают задаваться разными вопросами, в числе которых немалое место занимают размышления чисто философские — о краткодневности, о тщете, о размерах вознаграждения. Еще недавно он ничего не знал о маленьком существе, а теперь знает уже и о том, что его зовут Митя, и что от роду ему два с половиной месяца, и что у него часто болит животик. И с детского пищеварения перескочил Кметов мыслями на сок. В прошлом месяце цены на воду опять подскочили, а на сок упали, что, безусловно, имеет под собой основания. «Экономика? Саботаж?» — думал Кметов, неподвижно лежа на своей кровати и зная, что гудок зовет не его, а рабочих, отца Мити зовет.
Вставать не хотелось, — в квартире было холодно. Но и внутри у Кметова было холодно. Вот уже неделю чувствовал он этот холод внутри, с того дня, когда пришел к партийной часовне и увидел, что вход в нее наглухо заколочен досками. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. В крепости, куда он прибежал вслед за тем, и слыхом не слыхивали о государственном преступнике Алексее Камарзине, а газеты ни словом не обмолвились о покушении, лишь мелким шрифтом пропечатано было, что на трудовом посту после долгой и продолжительной болезни скончался министр овощной промышленности Юлий Павлович фон Гакке. Однако могилы его Кметов так и не смог отыскать.
Читать дальше