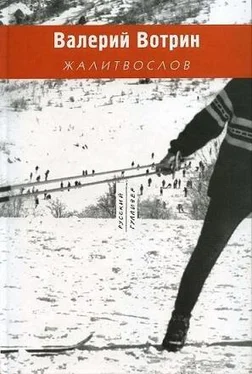— Однажды, — сказал бургомистр, — цех меховщиков пригласил меня на празднование дня их святого патрона. И, признаться, они славно уделали меня, добрые меховщики. Я очнулся посреди ночи у ведра. Меня, Пераль, рвало, извините за прямоту, но вы ведь знаете, сам я из народа, люблю простое, крепкое словцо. Да, я, кажется, выблевал то, чего вы так жаждете. Уж я искал ее, искал, шарил по дну ведра рукой…
Пераль непроизвольно поморщился. Бургомистр засмеялся. Смех у него был здоровый, народный.
К себе Пераль вернулся уже затемно, миновав первую стражу. Свою треуголку он нес в руках. Сейчас она была доверху полна яиц, он насобирал их на обратном пути. Кое-как взойдя по лестнице, он добрался до кровати, осторожно положил треуголку на постель и затеплил свечу. При свете стал он разбирать добытое. Яйца были мелкие, сорные, некоторые совсем несвежие — случались ему по пути отчего-то все лавочники да подмастерья, многие в подпитии. Правда, попалось и большое воронье яйцо, матово-белое, он стал его рассматривать…
— Мессере! — пискнул кто-то в углу.
Пераль вскочил, поднял свечу повыше и обнаружил в углу мальчишку лет десяти.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Пераль, разглядывая его. Мальчишка показался ему знакомым.
Мальчик в ответ только испуганно замигал.
— Как тебя зовут?
— Антонин, — с запинкой произнес мальчик.
— Почему ты назвал меня мессером?
Мальчишка потупился.
— Ведь вы иноземец, — едва слышно проговорил он.
— Ну хорошо, — улыбнулся Пераль. — Что ты делал в моей комнате? Только не говори, что дверь была отперта. Ты ведь в окно влез?
Мальчишка виновато кивнул.
— Я ждал вас, — прошептал он.
— Меня? Зачем?
— Мессере! — неожиданно громко сказал Антонин. — Отдайте мне то, что вы отняли у моего отца!
Пераль нахмурился.
— А кто твой отец?
— Он хозяин этого двора, — отвечал Антонин. — Отдайте мне это, добрый мессер!
— А ты знаешь, что это такое? — спросил Пераль, подходя ближе.
Антонин с жаром закивал.
— Это надо вручить Господу Богу. Я помню, священник говорил, давно…
— Давно… — откликнулся Пераль, в раздумье поставил свечу на стол, так что угол вместе с Антонином вновь ушел в темноту: — А почему твой отец сам не пришел?
— Он занят по хозяйству, — донесся из темноты тонкий голосок. — Он очень занят, добрый мессер. Так много постояльцев…
Капля горячего воска обожгла Пераля, и, словно в ответ, что-то подступило к горлу, встало комком.
— Не так далеко отсюда, Антонин, — переборов себя, произнес он, — в большом холодном замке живет князь Теодохад. У него рогатый парик и нет сердца, зато есть бабочки, которых собирают для него такие люди, как я. Представь себе, Антонин, залы, бесконечные залы, где вместо гобеленов висят панели с приколотыми к ним мертвыми бабочками. Их так много, Антонин, что от них рябит в глазах. Но князю Теодохаду их мало, он хочет, чтобы все бабочки мира были его, он хочет набить свой замок доверху, он не хочет, чтобы люди вручали их Господу Богу. И когда-то давно, — комок превратился в ком, стал душить, Пераль еле выговаривал слова, — я отдал ему свою. Отдал, ибо не знал, что ее можно вручить еще кому-то.
Мальчик подвинулся к нему.
— Мессере, — прошептал он, — возьмите мою, только отдайте папину!
Пераль покачал головой.
— Ему нужны только ночницы, Антонин, — выговорил он. — Вручи свою… тому, о ком говорил тебе священник… давно.
В углу раздался всхлип, а потом мальчик стремительно и бесшумно, как кошка, шмыгнул в дверь.
— Я их выпущу, мессере! — раздался с лестницы его горячечный шепоток. — Я видел, как брат Одо это делал. Я это сделаю… мессере!
Монах вынырнул из темноты и торопливо зашагал через всю площадь к собору, на ходу звеня ключами. Уверенности в его повадке не чувствовалось, даже напротив, — он спотыкался, часто озирался, громко звенел связкой ключей, норовя совсем выронить ее из рук. Подойдя к вратам храма, он словно в удивленье остановился: он привык к тому, что его ожидают люди, пришедшие послушать его проповедь. Но сейчас на площади перед собором не было ни души. Такого за три недели его служения еще не случалось. Немного постояв, он поднялся по ступеням и принялся отмыкать тяжелые двери. Руки тряслись, ключи звенели, к этому звону прислушивались молчаливые дома по краям площади, и монаху казалось, что они переглядываются между собой в негодовании. Наконец, двери отворились, и из проема пахнуло запахом старого ладана, сырым деревом. В храме никто не служил больше двух лет.
Читать дальше