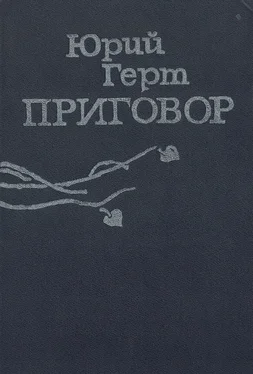— Гони обратно, в город... Домой.
Сергей понятливо — так ему показалось — кивнул и, пригасив скорость, развернул машину.
4
Все вещи, мебель в квартире были как бы немного смещены, сдвинуты с привычных мест. Похожее ощущение возникает после долгой отлучки... Федоров именно что почувствовал, перешагнув порог: словно вернулся из путешествия, которое слишком затянулось. Все здесь было и так, и не так, как раньше. Как было сегодня утром, когда он вышел отсюда, прихватив пачку нераспечатанных писем, надеясь прочесть их по дороге... И сейчас на столе перед ним лежали конверты из утренней почты. Но казалось, не ему они адресованы. Чужие, чужие письма. Откуда взялись они у него на столе?.. Неизменная, чиненная-перечиненная «Эрика», прикрытая сверху куском полотна с вышитым в уголке васильком, Ленкина работа... Неужто это его «Эрика», и это он просиживал за нею часами, стуча по старомодным, с металлическим ободочком, клавишам?.. Он опустился в кресло, откинулся на спинку. Солнце садилось, на стене косо лежал его луч, похожий на кровавый мазок.
Федоров закрыл глаза. И как если бы сызнова он очутился в том потрясенном, онемевшем зале, у него в ушах звенел, клокотал голос Виктора:
— Зачем?.. Да уж не ради трояка или пятерки! Может, мы себя испытать решили?.. Это на уроках и в книгах для младшего возраста, говорится: добрые, честные... Лажа все это!.. А если без балды, так — не добрые и не честные, а просто — трусы!.. А мы так не хотим... Мы себя испытать хотели: кто ты — человек или мразь?..
И это говорил Витька, Витюха, его сын?..
Он сидел, уперев локти в стол, обхватив голову руками. Не хотел смотреть — и смотрел сквозь пальцы, как расплывается по стене, ползет вширь набухшее кровью пятно.
5
Зазвонил телефон. Привычный, многократно повторявшийся ежедневно звук... Но Федоров почему-то вздрогнул, перед глазами, вслед за звонком, взорвались, заметались белые молнии. Он потянулся к трубке, но задержал руку, дожидаясь, не оборвутся ли бегущие вдогонку один за другим долгие, настойчивые звонки... Не дождался. Поднял. Выдавил: «Слушаю...»
— Алексей Макарович?.. Это Конкин.
Конкин ,Конкин... Перед Федоровым на секунду возникла мускулистая, плотная фигурка на волейбольной; площадке, вспомнилось, как они сидели на скамейке, Конкин говорил: «Надо любить детей... В этом весь секрет...»
— Слушаю,— глухо повторил Федоров.
— Я на одну минуту, Алексей Макарович, знаю — не вовремя... И все же решил, побеспокоить.
— Да нет,— сказал Федоров.— Отчего же...— Одной рукой он придерживал трубку, другой с хрустом ломал, заложив между пальцами, граненый карандаш.
— Тут я подумал, и со мной педагоги наши согласны,— мы сейчас дома у меня собрались... Так вот, я подумал: если все это правда, о чем сказал Виктор... Если даже и правда, то все равно... Тот Виктор, который признался, это уже не тот, который... Который, понимаете, был в тот день... В тот вечер, третьего марта... Понимаете?
— Не вполне,— сказал Федоров.
Мысли его рванулись куда-то вразброд. Что он такое лопочет?..— подумал он о Конкине.
— Я в том смысле,— с терпеливой, размеренной интонацией, словно разъясняя непонятливому ученику, продолжал Конкин,— что в душе у Виктора происходят какие-то глубинные процессы, он сам изменился за это время — и уже не тот, каким был. Иначе с чего бы ему признаваться, понимаете?.. И я не знаю, как для суда... То есть я уверен, что это и для суда важно, но еще важнее — для нас с вами! И когда я об этом подумал, то решил вам позвонить... Поскольку... Да что там — все и так понятно.
— Да, понятно,— повторил Федоров, как эхо.— Спасибо.— И положил трубку первым.
Это чувство зародилось у него самого — еще в зале суда... Он только не сформулировал его — даже для себя, не то чтобы кому-то высказывать. Тем более, что, защищая Виктора, он как бы и сам защищался. Но не только поэтому. Признание — да, но раскаяние?.. До него было тут далеко. Раскаянием пока и не пахло...
— Здесь каратэ интересовались — как да что, и не чесались ли у нас руки, чтобы применить его не только в спортзале... Да, чесались! Потому что каратэ — борьба честная, без вранья, не то что в жизни!.. Вот здесь мой отец. Он не хуже, может — лучше других. И совесть у него во всем чиста. Я на его белейшей, незапятнанной совести первая клякса!..— Федоров заставил себя поднять глаза на Виктора, веки его, казалось, весили тысячу тону. По Виктор не смотрел на отца — его лихорадочный взгляд мотался по залу.— Он все пороки обличает. По телевизору. Или в газете. В Солнечном, например, люди отравленным воздухом дышат, а у него совесть спокойна — он статейку про это написал, обличил. А надо будет — еще напишет... Только что от этого изменится? Все как было, так и останется! Зато совесть — как горный снег!..
Читать дальше