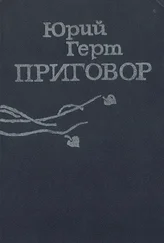— Мне кажется, спор идет не по существу,— сказал он примирительно.— Конечно, Иноземцева права, в каждой школе есть свои недостатки, никто не возражает... Но в запальчивости она сгустила краски, получилась не очень-то серьезная буря в стакане воды... Если разобраться, она просто не сумела четко сформулировать свои мысли, а древние греки говаривали: войны начинаются из-за неточного употребления слов...
Кое-кто уже улыбался, и бабушка Тихоплав благожелательно кивнула несколько раз, пока он говорил, но черт дернул меня кинуться на рожон.
— А что сказали бы древние греки о школе, где в самых способных учениках давят и гасят всякую мысль? Где пятерки ставят за тупость и усердие? Где бездумное послушание считается главной человеческой добродетелью Это — школа? Это — воспитание? Это — педагогика?..
Не помню, что я еще говорил, только Вероника Георгиевна и Федор Евдокимович все твердили:
— Не позволим опошлять!.. Не дадим очернять!..
И Варвара Николаевна, высокая, смуглая, похожая на цыганку, все время делала мне какие-то знаки и прижимала палец к губам.
— Теперь мне все понятно,— сказала Вероника Георгиевна, когда я, наконец, замолчал.— А я-то удивляюсь: Иноземцева, такая милая студентка, и вдруг... Но теперь мне ясно: ей казалось, будто она записывает свои мысли, а на самом деле...
— А что же на самом деле, Вероника Георгиевна?— сказала Маша вставая.
— На самом-то деле вы записывали то, что вам на ушко нашептывал Бугров!.. Вот у кого вы идете на поводу, милая моя!..
— А я не лошадь, чтобы ходить у кого-то на поводу! — звонким голосом отчеканила Машенька. И вдруг, вся багровея от гнева, схватила портфель и выскочила из аудитории.
Я постоял секунду в наступившей вдруг тишине и, чувствуя, что надо что-то сделать, а что?..— вышел вслед за нею. Оля Чижик, вцепившись в мой пиджак, стремилась меня удержать,
— Вазу,— сказал я ей довольно громко,— Для печенья.— Не знаю, сразу ли она меня поняла...
И вот теперь мы были в пустой сумрачной аудитории, я и Маша, и я не знал, что ей сказать, и только гладил по мягким пушистым волосам, и все. Наконец она вынула из кармашка платочек и вытерла мокрое лицо,
— Господи,— сказала она, не глядя на меня, ну что ты со мной, как с маленькой?.. Я же не маленькая... Только у меня это бывает... Вдруг такая тоска, и все так пошло, так гадко, и кажется, ну зачем дальше жить?.. Или вдруг ночь — а я проснусь и плачу, сама не знаю, отчего... Я просто дура, вот и все. Не обращай на меня внимание, это сейчас пройдет...— Она закусила краешек платка,— Ну, скажи, почему это так случается: хочешь только хорошего, а выходит совсем не то, совсем не то...
Я представил себе, как в те самые минуты, когда я лежу у себя на койке и в руке у меня пачка старых писем, которые я знаю наизусть, — тут же, почти рядом, на Плеханова 26, в комнате с цветными занавесками лежит она, свернувшись калачиком, уткнув лицо в горячую, влажную подушку... Я вспомнил, как она уговаривала меня — там, за мостом: «Так нельзя, Клим, на свете столько хорошего!»
Наверное, прозвенел звонок, в коридоре послышались топот и голоса. Вспыхнул свет.
— Вот вы где?..
В аудиторию вбежали Варя Пичугина и Наташа Левашова.
— Что вы наделали!— выкрикнула Варя.— Что теперь будет!
— Ничего не будет! Ведь это же правда, правда, и все это знают!— Левашова кинулась к Маше, обхватила за плечи, прижалась щекой к ее щеке.
В двери, держа под мышкой стопку рассыпающихся книг, влетел Сашка Коломийцев. Он был так возбужден, что не обратил внимания на наши лица.
— Бугров! — заорал он.— Сизионов!..
Я почувствовал, как у меня остановилось, а потом часто, гулко забилось сердце,— и сжал кулаки.
* * *
Его фамилия вызывала у меня представление о чем-то длинном и тощем, что-то зеленоватое было в этом имени, нудное и торжественное — Сизионов... А тут вдруг на сцену легким катышком выкатился низенький, толстенький человечек с лучезарной, сияющей улыбочкой на круглом лице.
— Какой симпампон!..— вырвалось у Вари. Аплодируя, она даже вскочила на ноги, и все тоже аплодировали, многие — стоя. А человечек на сцене сначала покивал, посветил в зал своей лучезарной улыбкой и потом сам принялся аплодировать; в его толстенькой фигурке при этом было что-то даже смущенное, он словно сам немного стыдился своей славы и хмурился от ее слепящего блеска.
Потом все уселись, и Твердохлеб подошел к кафедре. Мне показалось, он ищет глазами портрет Льва Толстого, но портрета не было, и он обернулся к Сизионову, и так, вполоборота к нему, произнес речь. Это была ода в прозе, эпитеты переливались в ней, как новые пятаки. Сизионов переговаривался с рядом сидевшими преподавателями, весело поглядывал в зал и улыбался.
Читать дальше