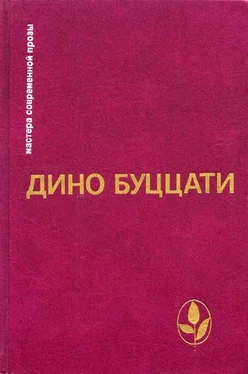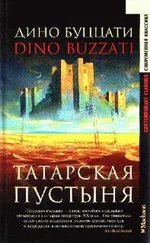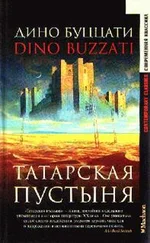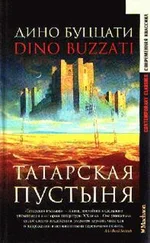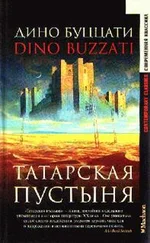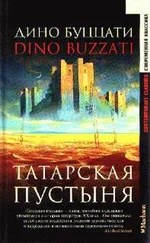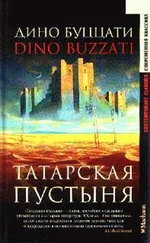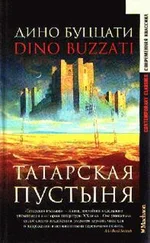— Вся моя жизнь теперь изменится, — сказал Дрого. — Пожалуй, я бы тоже уехал отсюда. Прямо хоть в отставку подавай.
— Ты еще молод! — сказал Ортиц. — Подавать в отставку глупо, еще можно успеть…
— Успеть? Что?
— Повоевать. Вот увидишь, не пройдет и двух лет…
(Он говорил, а в душе надеялся, что этого не случится, ибо хотел, чтобы Дрого тоже вернулся домой, как и он, не дождавшись, когда Фортуна ему улыбнется, — слишком велика была бы несправедливость. Хотя к Дрого он испытывал вполне дружеские чувства и желал ему только добра.)
Но Джованни ничего не ответил.
— Да уж, и двух лет не пройдет… — повторил Ортиц, надеясь услышать возражения.
— Да какое там — двух лет, — заговорил наконец Джованни, — века пройдут, а то и больше. Дорога, считайте, заброшена: с севера никто уже не явится.
И хотя вслух он произнес именно эти слова, голос сердца говорил ему другое. В глубине души у него с молодых лет сохранилось пусть нелепое, но неодолимое предчувствие роковых событий, смутная уверенность, что лучшее в его жизни еще и не начиналось.
Оба умолкли, заметив, что этот разговор отдаляет их друг от друга. Но о чем еще было говорить им, прожившим под одной крышей и мечтавшим об одном и том же почти тридцать лет? Теперь, после столь долгого совместного пути, дороги их расходились, вели в разные стороны, но обе — в неведомое.
— Какое солнце! — сказал Ортиц, глядя слегка помутневшими от старости глазами на стены своей Крепости, которую он покидал навсегда.
А стены оставались все такими же — желтоватыми и сулящими необыкновенные приключения. Ортиц пристально глядел на них, и никто, кроме Дрого, не мог бы догадаться, как он страдает.
— И правда жарко, — ответил Джованни, вспомнив о Марии Вескови, о том давнем разговоре в гостиной, куда доносились наводящие грусть фортепьянные аккорды.
— Да уж, погода на славу, действительно, — подтвердил Ортиц.
Оба улыбнулись в знак того, что хорошо понимают друг друга и подлинный смысл этих вроде бы пустых слов. Какое-то облако накрыло их своей тенью, и на несколько минут все вокруг потемнело, зато по контрасту ослепительным зловещим светом вспыхнули на солнце стены Крепости. Две большие птицы кружили над первым редутом. Издалека донесся едва различимый сигнал трубы.
— Слышишь? Труба, — сказал старый офицер.
— Нет, ничего не слышу, — солгал Дрого, чувствуя, что такой ответ больше придется по душе товарищу.
— Наверно, я ошибся. Да отсюда ее и не может быть слышно. Действительно, чересчур далеко, — произнес Ортиц дрогнувшим голосом. Потом, справившись с волнением, добавил: — А помнишь нашу первую встречу, когда ты приехал сюда и испугался? Ты еще не хотел тогда оставаться, помнишь?
Дрого смог только ответить:
— Очень давно это было… — И странный ком подкатил у него к горлу.
Следуя извилистому ходу своих мыслей, Ортиц сказал:
— Кто знает, может, на войне я бы еще пригодился. Принес бы какую-то пользу. Но на войне… а в остальном, как видишь, я — пустое место.
Облако уплыло. Оно уже перевалило за Крепость и теперь скользило по направлению к унылой Татарской пустыне, медленно удаляясь на север. Вот и все… Солнце засияло вновь, и на земле опять появились тени двух мужских фигур. Лошади Ортица и тех, кто его сопровождал, нетерпеливо били копытами по камням метрах в двадцати от них.
XXVII
Страницы переворачиваются, проходят месяцы и годы. Бывшие школьные товарищи Дрого уже, можно сказать, устали от работы, у них окладистые бороды с проседью, они степенно ходят по улицам, и все почтительно с ними здороваются, у них уже взрослые дети, а кое у кого есть и внуки. Старые друзья Дрого, довольные своей карьерой, любят теперь понаблюдать с порога возведенного ими здания за течением жизни; в водоворотах толпы они с удовольствием отыскивают взглядом собственных детей, подбадривают их, торопят, побуждая обгонять других, всего достигать первыми. А Джованни Дрого еще чего-то ждет, хотя надежды его с каждой минутой слабеют.
Теперь он действительно изменился. Ему пятьдесят четыре года, он уже майор и помощник коменданта немногочисленного гарнизона Крепости. Еще недавно перемены в нем как-то не бросались в глаза и его никак нельзя было назвать стариком. Время от времени, хотя и не без труда, он для разминки делал круг-другой верхом по плацу.
Потом Дрого начал худеть, лицо его приобрело неприятный желтоватый оттенок, мышцы сделались дряблыми.
— Печень пошаливает, — говорил доктор Ровина, уже глубокий старик, твердо решивший окончить свои дни в Крепости. Но порошки, прописанные доктором, не помогали, по утрам Джованни просыпался разбитым, с ноющей болью в затылке. Сидя у себя в кабинете, он только и ждал, когда наступит вечер, чтобы можно было рухнуть в кресло или на постель.
Читать дальше