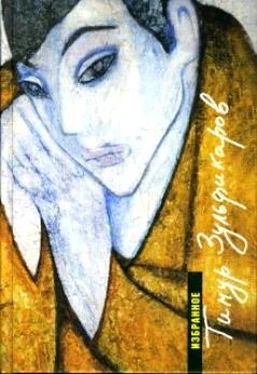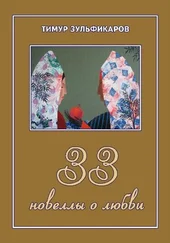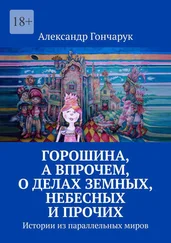Надо и смерть сделать последним великим лютым наслажденьем!..
..А вьюга сыплет, метет, сотрясает ветхий дом мой одинокий…
Уже две недели прошло, как я продал на рынке погибельную черешню…
Еще две недели остались…
Уже две недели прошло, как Ангел Серебряные Власы уехал на велосипедике…
Навсегда?
Я давно уже выпустил из аквариума зимнюю подругу мою Эфу — и она бродила, ползала по дому моему…
А иногда я кормил её хлебом в вине, и тогда она засыпала, счастливо свернувшись, как кошка, у моих ног, а иногда просилась на руки, и я брал её на руки и любовался коралловой красотой её и черными, маслянистыми кольцами с изумрудными каемочками по краям…
И гладил её чуткими перстами по царственной раздвоенной малахитовой головке, по притихшим рожкам, и она блаженно усыпала, уплывала, увядала в моих руках…
И уходила во сне к своим давно заснувшим Царям…
…В метель необъятную в пустынном доме моем мне хорошо спится. Бездонно…
В метель я засыпаю прямо в старинном кресле моем, где нашел на меня сон, потому что сон так причудлив и пуглив, как лесная птица, и если я встану и пойду спать в постель мою — сон убежит от меня надолго, и долго буду в ночи бессонной я хладно, трезво лежать в одинокой постели и ждать его…
Я полюбил засыпать в кресле, хотя это было неудобно, но вольно и сладко было, как сон в поле, в свежем духовитом сене…
О!..
…Что-то снилась мне дальняя матушка моя… лицо её тепловейное, в звёздах над кроваткой моей…
Потом Гуля в водопаде нагая, нагая, гладкая живомраморная лепилась, прилепилась неотвязно к нагому телу моему, как бинт к свежей алой ране…
Но потом какое-то странное тепло, смелая, потаенная ласка губ женщины что ли разлилась в чреслах моих ликующих…
Кто-то сладко мучил, теребил, обвивал, сладил, испивал, пил, воздвигал и усмирял уснувший мой фаллос и ядра мои…
Словно нежно гладил, касался медоточиво…
Я, уже в полусне, вспомнил ту древнюю миниатюру, где нагой Дарий Гуштасп I на золотом троне блаженно дремлет, объятый тремя блаженными коралловыми змеями…
О Боже!.. О, ночной Господь мой!..
Это она! Эфа!.. Пришла и угнездилась в покорных чреслах моих!..
О!..
А я дремал, забвенно плыл на старинном кресле…
И был обвит одной коралловой Эфой, но она служила мне, как две эфы…
Как та, которая высекала, вынимала, выжимала сладостно живицу Царя, и как вторая, которая эту живицу жалом-язычком убирала… да…
Да! Это было ночное лакомство, великогрешная утеха нечеловеческая Царей!..
И у Эфы, как у священной змеи древних египтян Фи, дрожали от наслажденья первобытные рожки!..
И вот от одиночества моего Эфа стала тайной, пряной утехой лакомой моей…
И я, содрогаясь, гладил рожки ее, как у улитки, содрогаясь от дочеловечьего звериного удовольствия!..
…С той ночи Эфа стала приходить ко мне, в чресла мои…
И странно: до этой ночи я болел и мучился болезнью мужей — простатитом, и ни дорогие лекарства, ни ласки женщин не изгоняли недуг возрастной сей, но после этих змеиных ночей забыл я о нестерпимой болезни…
О! Быть может, цари и за это возлюбили целительную Эфу?..
Не знаю… не знаю…
Тут много тайн!..
Но у древнего поэта Тахири есть такие строки:
О, мой зебб, фаллос в ночи
Обвивает сладостно меня и возлюбленную мою,
Как целебная Коралловая Эфа…
Или это мой зебб — Коралловая Эфа…
Тут опять тайна…
Быть может, Коралловая Эфа — это метафора?..
Или Коралловая Эфа служила не только Царям, мужам, но и их сладострастным женам, по ночам вползая в их трепетные лона, гнезда? и, биясь, виясь там, высекала и пила живицу жен слаще и дольше, чем зебб Царя?.. А?..
Сколько тайн ты сокрываешь, коралловая сестра, подруга, а теперь и возлюбленная моя? А?..
О Боже!..
Вот так змеи выхолащивали и убивали неплодных Царей и их нерожающих жен?..
Вот так погибали Династии и страны от сладострастия?..
Ибо!..
Ибо Господь еще в древности воздвиг священную, неприкосновенную границу — стену между человеком и зверем (иногда зверь вселяется в человека)…
Но всемогущие Цари нарушали сладострастно эту границу — стену!.. И за это погибли, изошли?..
О Боже! О Господь мой!..
Иль в эту ночь я тоже нарушил священную границу?..
И должен погибнуть, сгинуть?..
И погибну… И сгину… И сделаю смерть наслажденьем последним…
В русской метели-саване?..
В таджикской реке-хрустале?..
Или у Стены Плача в Иерусалиме, где я был много раз, и всякий раз радостно и горестно, как дитя, рыдал, воспоминая безвинного отца своего, чья могила неизвестна…
Читать дальше