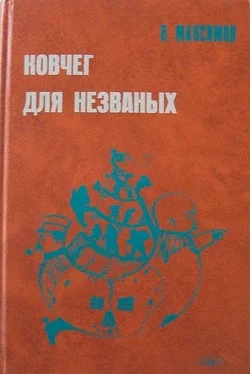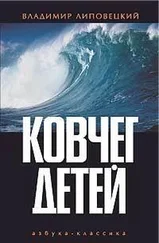Федор протянул было ладонь в коровью клеть, чтобы прикоснуться к возбужденному сейчас зеркальцу телки, ощутить под пальцами его нежность и теплоту, чуть успокоить ее, наконец, но в это время кто-то требовательно толкнул парня под локоть:
— Ты чо здесь?
Федор обернулся, но под брезентовым капюшоном, кроме сивой бороденки, ничего не разглядел:
— А ты чо?
— Сторожую.
— А чего сторожевать-то, не украдут.
— Не украдут, а глядеть надоть, ненароком сорветь.
— Так не удержишь ведь?
— Удержать — не удержу, а подмогу кликну, остатнее выручим.
— Сам откуда?
— С-под Ожерелья, а что допытываешь, документ е?
— Чо, папаня, ослеп совсем, документов моих не видишь? — и Федор глазами указал тому на «иконостас» над правым карманом своей гимнастерки. Я за этот самый «документ» четыре годика в землянках вшей давил.
— Много вашего брата нынче с эдакими документами шастает до первого уполномоченного. — Но все же смягчился. — Подымить е?
— Бери, — широким жестом Федор выкинул перед ним пачку «Беломора». Бери пару.
Мужик довольно хмыкнул, взял, откинул капюшон, обнажив крупную голову в старенькой солдатской шапке, под которой оказалось совсем еще не старое лицо с синими глазами и малость ноздреватым уже носом. Старательно разминая папиросу, он заботился ни табачинки не рассыпать, долго и с явным удовольствием обнюхивал ее со всех сторон, пока, наконец, с неменьшим удовольствием прикурил от протянутой Федором трофейной зажигалки:
— Раз предсельсовет угощал, а боле не доводилось. — Он осклабил в блаженной улыбке свои желтые, крепкие опять же, зубы. — Как люди живут, куды нам при нашей темноте!
— Шапку-то носишь, на фронте был? — Федору хотелось завязать хоть какой разговор, лишь бы не спускаться туда, в ту вонь и ругань, и даже балалайка там, с ее дурацким припевом, вызывала у него здесь, на палубе, одну только злобу, не более. — У кого?
— Не, — безоблачно и охотно ответил тот, — у мине язва. С издетства еще. Я и по малолетству желудком слабый был, а как пошло-поехало, колхозы да голодуха, тюря да лебеда, совсем ослабел. — Беседа вроде бы погасла сама по себе, еще и не начавшись, но тот вдруг сам словоохотливо взял ее в руки. — Я в эту самую заваруху, в семнадцатом, в парнях ходил, вскорости и обженился, никому века не зажил, света не застил. Баба мине попалась как баба, ни красы в ей той не было, ни ленивая, ни работящая, а так, с серединки на половинку. Тольки, парень, сильно я ее любил, без нее жить не мог, присохла моя грешная душа к ней, будто кузнецким железом намертво припаяло: кайлом рви — не оторвешь, гвоздодером тяни — не оттянешь. Только это нынче, а тогда жили навроде всех людей: землю работали, хлеб когда был — ели, детишками распложались. Деревня наша, от трубы до трубы — воробью раз сигнуть, осьнадцать дворов, как отдать, избенки все мелкота, ни одного пятистенника, и церквы тожеть нету, одно, понимаешь, названье, что деревня. Какие мы там никакие, а тожеть — люди. И что это за напасть такая на человека, — он даже как бы всплеснул или, вернее, пытался всплеснуть руками: уж больно неудобно в его брезентовом плаще колом было это сделать, — не могуть в ладу на белом свете жить. Как пошло тогда, как поехало в семнадцатом, то да се и крутится. А по нашей-то деревеньке вшивой, времечко золотое-то такой косой да этаким кистенем прошлось, что любо-дорого! В самую первую голодуху закатилась к нам ватага не ватага, команда не команда, а так, ватажонка, команденка одна — восемь рыл, как на подбор: «Давай хлеб!» А иде его тогда, хлеба-то того, нам взять было, тольки родить оставалось. Почитай, в каждой избе покойник али полпокойника. Тряхнули и мене, грешным делом. Хорошо тряхнули, славно, — «хорошо» он произнес врастяжку, будто для прыжка напрягался, и чуть побитые ноздри его яростно вздрогнули, — век помнить буду… Только зачем ее-то восемь лбов, очередью, ить не жалезная… Вот она тебе язва моя, даром оставляю, я добрай…
И двинулся себе, даже капюшона не натянул, по шатко-валкой палубе, будто в лобовую двинулся.
«Лезешь с разговорами, — объязвил себя Федор, — нарвешься когда-нибудь, болтун — находка для шпиона!»
И тоже повернул, но только в другую сторону, туда, в ад, в чад, в ругань и плач, в дребедень балалаечную, и новое, неизвестное дотоле смущение властно входило к нему в душу.
3
Отец сказал:
— Будя, вылезай, чего рыть, всё одно там камень, сплошь камень, вот земля-то, прости Господи, тьфу.
Читать дальше