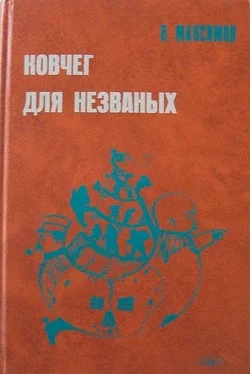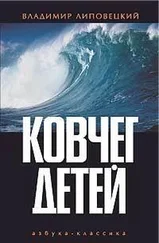— Гоголев, Иван Семеныч, членов семьи четыре души. — Он небрежно сбрасывал на чашку весов по порядку хлеб, крупу, маргарин, картошку. — Чего пыхтишь, Гоголев, недовес усмотрел? — Кофейные пальцы его лихо скользили по костяшкам счетов. — Картошкой больше, картошкой меньше, подумаешь, какое дело, ни тебе, ни мне! Зато хороший товар имеешь, без обмана, бери, пока не раздумал, я добрый. — И походя отмахиваясь от возможных протестов, торопил: — Следующий!..
Очередь рассасывалась, но загруженный пайковым добром народ не спешил по домам, к эшелону, а большей частью, будто равномерный пунктир для отставших, тянулся к станции, куда его манила гостеприимная толкотня около привокзальных шалманов: душа жаждала хмельного полета и песен.
— Мужики, а мы что, рыжие, что ли! — загорелся вдруг Сергей Тягунов, подаваясь в ту же сторону. — Нам от людей отставать не приходится, у нас тоже понятие есть.
— А чего в самом деле? — вопросительно скосился на Федора Овсянников, — у баб, видно, все одно аврал, зайдем по-людски для душевного разговору, от нас не убавится.
Алимжан вновь прицокнул языком, кивнул с одобрением:
— Зачем шалтай-болтай, сказал и — айда!..
Остальной путь проделали молча, даже с некоторой торжественностью, словно предуготовляя себя к некоему обряду или действу, от которого зависело их ближайшее будущее.
Шалман, куда они завернули, был уже полон; в дыму и пивной сырости голос буфетчицы звучал, будто из-под пола:
— Не толпись, кацапня, всем достанется, успеете нализаться, целый день впереди, дорвались, сиволапые, теперь за уши не оттянешь, покуда до зеленых чертей не нажретесь… Пей, сколько налили, а то совсем не дам!
Устроились они стараниями того же Тягунова. В крикливой толчее шалмана тот чувствовал себя, как рыба в воде: бесцеремонно растолкав шумный гомонок в углу, очистил место у стойки, ввинтился в толчею перед прилавком и вскоре вынырнул оттуда с двумя кружками в каждой руке и бутылкой водки под мышкой:
— Принимай, мужики, харч, только пить из одной посуды придется! — Он выудил из кармана граненый стакан. — Кто как, а я не брезгую, ко мне не прилипнет, кто смелый, тяни первую…
По мере выпивки явь вокруг них расправлялась, голоса в шалмане отдалялись и как бы затихали, предоставляя их самим себе, занятому только ими пространству и понятному только им разговору. Хмель возносил их над дымом и вонью пивной в другой мир и в иные пределы, где безраздельно царил дух сердечной широты, вечной дружбы и мгновенного взаимопонимания. Горние выси открывались им в такой близости, что, казалось, не пройдет и часу, как у них за спиной вырастут легкие крылья, что понесут их над этой грешной землей, с ее городами и весями, светом и темью, сибирской магистралью и Курильской грядой. Боже мой, сколько отдохновения таится для страждущей души на дне граненого стакана, если он, конечно, не пуст, а наполнен сивушной влагой!
Среди клятвенных излияний и очередных здравиц, когда уже приспевало время возвращаться домой, перед Федором вдруг выделилось и пошло разрастаться в матовой бледности внезапно заострившееся лицо Тягунова:
— Братцы, — губы его азартно тряслись, шепотно складывая слова, — заяц скребется, беру на мушку. — Он резко нагнулся и одним движением приподнял над стойкой безликого от ужаса парня лет не более двадцати, держа его за ворот замызганной телогрейки. — По мешкам шаришь, сука! — Он огляделся с нетерпеливым торжеством. — Ворюга, братцы, у рабочего человека тащит. Народ рядом с ними настороженно расступался, образуя круг, и Тягунов бросил парня в этот круг на сырой заплеванный пол и, метясь каблуком сапога ему в переносицу, ударил первым. — Получай, гад!
Куда только девалась обычная незлобивость Сергея: все в нем сейчас было перекошено беспамятной яростью, которая, изливаясь на окружающих, вызывала в них ответный азарт. Поэтому, едва из-под тягуновского сапога выдавилась первая кровь, толпа, словно подстегнутая изнутри, мгновенно захлестнулась вокруг лежащего, накрыв его с головой.
— А-а-а-а!..
Федор бросился было туда, в общую кашу, чтобы попытаться остановить, утихомирить, унять это побоище, но лопатистые руки Овсянникова, клещами сдавив ему бока, силою вынесли его наружу:
— Дурной, не видишь, что ли, — не в себе народ, — увещевал он Федора, увлекая прочь от гудящего шалмана, — им сейчас, кто ни попадись под руку, насмерть забьют и правого, и виноватого, не наше это дело, Федек, пускай милиция разбирается, она за это деньги получает.
Читать дальше