Меня передернуло.
— Настю в детстве изнасиловал отчим. Теперь ясно?..
10
Иногда лёжа в кровати, я очень хорошо себе представляла, что происходит там, в мире. Сама себе я напоминала ужаленное насекомое. Отчасти парализованное, оно еще дергается. А там, на этих зеленых улицах где-нибудь Лотта цедила сквозь зубы слова, как коктейль сквозь соломинку:
— Все деятели искусств, в сущности, сволочи и Божьи дети, сучье отродье. Капризны и прихотливы, как оранжерейные растеньица, надменны, как красивые женщины, и равнодушны, как постантичные статуи, которые украшают парки со времен советского периода. Не дай бог влюбиться в деятеля искусства.
Она делала тугую затяжку и сбрасывала сигаретный пепел на черный резиновый коврик переднего сиденья автомобиля. За рулем, допустим, сидел Игнат, он поглядывал на Лотту искоса и улыбался, а она, воодушевляясь, пьянея от собственного красноречия, продолжала:
— Все эти высокие юноши с лицами, отмеченными печатью благородных страданий и тайного разврата, нечеловечески даровитые, и вдобавок балованные сердцееды, вся эта богема в фальшивом убранстве собственной грядущей славы, в мишурных венчиках поклонения ближайших подруг, которые исходят половой истомой. Не служившие в армии «воины», не читавшие молитв «монахи», ничем не владеющие «князья», вся эта шушера, литературная шелупонь, коллекционеры благоглупостей, собиратели пустот — я терпеть их не могу, и… Если влюбляюсь, то именно в таких.
Игнат улыбался и жмурился. Кожаная кепка с околышком лежала на заднем сиденье.
— Вообще странно, что такая прекрасная девушка, как вы, остается без мужского внимания…
— Без внимания я не остаюсь! — воскликнула Лотта моего воображения.
— Да. Конечно.
— Но единственное внимание, без которого я осталась, действительно, это…
Игнат снова поглядел на нее, но ирония мелькнула в его взгляде, а может быть, нет — но уже нельзя сказать, переменила продолжение своей речи Лотта в этот самый момент, или с самого начала заговорила не об Игнате:
— Это внимание моей подруги. Бедняжка! Ей теперь самой требуется внимание, а я даже не могу оказать ей помощь.
— Почему?
И Лотта со сладострастным наслаждением, с видом самым сокрушенным, рассказывала обо мне, валяющейся здесь в полупараличе, в одном непрекращающемся психическом спазме. И, должно быть, она и сама в эту минуту верила в свое сочувствие:
— Она отказывается кого бы то ни было видеть из своих прежних друзей, точнее, к ней отказываются пускать — вы ведь знаете все эти ужасные порядки в сумасшедших домах… То есть нет, вы, конечно, их не знаете, откуда… Как? Разве вы не в курсе, что бедняжка загремела в психушку?
Нет, моя Лотта была доброй женщиной. Но ни одна женщина не устоит перед искушением выглядеть чуточку более разнообразной за чей бы то ни было счет в глазах мужчины, который случайностью интересует ее сейчас. И это справедливо. Я же не знаю, справилась ли я на ее месте с собой, с таким соблазном. Тем более, что всё это в сущности совершенно невинно.
Руки нашаривали под подушкой сигареты. Должно быть, я несправедлива к своим подругам, реальным или мифическим. Но, с другой стороны, я и не так наивна, чтобы думать, что подобные разговоры не происходили за моей сутулой, узкой, пропахшей сигаретным дымом спиной.
11
Мне было ясно. Мне было совершенно ясно, что для нас и Господень Суд — мера запоздалая и недостаточная. Стараясь не глядеть на лампу, которая гипнотизировала, я тяжело поднялась на кровати, мертвец, вставший из неповапленного гроба, и, следуя совету, посидела, свесив ноги в носках. Достала из-под матраса тапочки и кинула на линолеум — они упали с гулким стуком. Снова сыскала под подушкой сигареты. В палате раздавался тяжелый храп. Они дышали на разные лады, и согласия не было в этом сне. Кому-то снились кошмары — постанывали.
Когда голова перестала кружиться, встала и побрела в туалет. Чего не хватает в больнице, так это простой, по-человечески так понятной возможности — остаться одной. Может быть, в том и смысл этой странной коллективной изоляции, принятой как вполне оправданный способ лечения? Лечения, заведомо не дающего результатов… Это только в недобросовестных книжках больные имеют возможность вести длинные, полные затейливой казуистики разговоры с врачами. В реальной психиатрии внутренняя картина безумия никого не интересует. Но я слишком много требую. Бедняжки, разве могут врачи справиться вдвоем или втроем с сотней подозрительных, замысловатых и хитрящих женщин? Я просто хочу сказать, что вне общества и вообще в одиночестве безумие ведь невозможно. Как вы поймете, что сошли с ума, если не найдется никого, кто бы указал вам на это?
Читать дальше
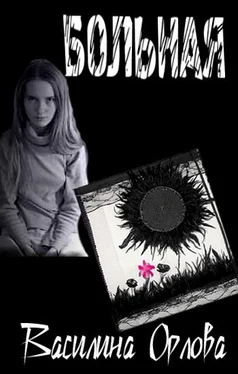




![Василина Боброва - Магичка [СИ]](/books/406321/vasilina-bobrova-magichka-si-thumb.webp)



