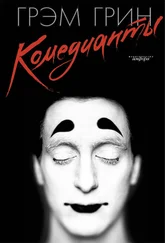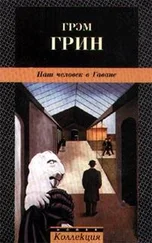— Но подумай, — сказала она, пристально следя за всеми его передвижениями, — чтобы избавиться от этого…
Неожиданно он остановился и повернулся прямо к ней.
— Этого… — сказал он. — Но это — рай. — Он подошел немного ближе. — Если бы мне следовало перестать колебаться и прыгнуть, — продолжал он торопливо, — то я мог бы сделать и кое-что получше, чем идти в Льюис.
— Получше? — повторила она с мягкой насмешкой.
— Почему ты все время повторяешь слова? — сердито сказал он. — От этого можно сойти с ума. Сидишь здесь невозмутимая, собранная, спокойная. О, я возненавидел бы тебя, если бы не любил.
— Ты — сумасшедший, — сказала она.
Он подошел ближе.
— Допустим, я последую твоему совету — больше не колебаться, — сердито проговорил он, как будто действительно возненавидел ее. — Я хочу тебя. Почему бы мне не взять тебя?
Элизабет засмеялась.
— Потому что ты всегда будешь колебаться, — сказала она. — Я проверила. Я на тебя махнула рукой.
— И поэтому я тебя не трону, не так ли? — Дыхание Эндрю переросло во всхлипывание, он почувствовал, что его последняя опора рухнула и над ее обломками показалось пугающее будущее. — Ты ошибаешься. Я докажу, что ты ошибаешься. Я пойду в Льюис. — Он испугался, когда слово «Льюис» сорвалось у него с языка. Он нанес еще один безнадежный удар по пугающему будущему. — Запомни, — сказал он, — я больше ничего не обещаю. Я пойду в Льюис и посмотрю. Я не обещаю, что пойду в суд.
Элизабет издала слабый усталый вздох и встала со стула.
— Тебе завтра предстоит долгий путь, — сказала она, — ты должен поспать. — Она посмотрела на него с легким недоверием, и это ему польстило. Он воспринял его как знак того, что уже частично убедил ее. Неожиданно он почувствовал гордость и поверил в свое решение и был счастливее, чем когда-либо за многие годы.
— Я пойду спать туда, где спал прошлой ночью, — сказал он.
Она подошла к окну и задернула штору.
— Туман ушел, — сказала она. — Небо совершенно чистое, и я увижу шесть звезд. — Она открыла маленькую дверь у камина и встала на нижнюю ступеньку лестницы. — Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Эндрю разбудила волна золотого света. Некоторое время он лежал, не сознавая ничего, кроме тепла. Где-то далеко, вне рассудка, тревожные дела грызли его, подобно выводку мышей. Загипнотизированный и безучастный, он удерживал их в стороне, не сводя глаз с золотой неподвижной волны. Но мыши, должно быть, продолжали грызть, так как неожиданно и неодолимо в его сознание ворвалась реальность. «Я ухожу отсюда, — подумал он, — я обещал уйти». — И он подумал о Льюисе как о мрачном и ужасном враге, который поджидает его, чтобы подставить ему ножку и бросить обратно в смерть. «Но мне нужно только пойти в Льюис, не больше, — сказал он сам себе. — Это все, что я обещал». И он подумал, а нельзя ли в таком случае нарушить свое обещание — уклониться, как он это назвал, от него вовсе. «Но тогда я никогда не смогу вернуться назад», — сказал он, и это показалось ему огромной невозможной утратой — навсегда потерять Элизабет, или, скорее, звук ее голоса, который окутывал его покоем.
Он встал и встряхнулся безнадежно, как взъерошенная собака, только что выбежавшая из пруда, которая знает, что хозяин намеревается гнать ее в воду еще много раз. «Я пойду в Льюис, — подумал он, — но уйду оттуда до того, как откроется сессия суда». Он попытался вычислить, какое было число. Он знал, что отправил письмо в таможню Шорхэма 3 февраля, неделя прошла до того, как предательство стало очевидным. Ночью, десятого (в последний раз), они попытались переправить груз. Это был четвертый день его бегства, и оставалось всего несколько дней до открытия сессии. Ему не стоило долго оставаться в Льюисе. Слишком много местных придет на суд, чтобы посмотреть на гибель, а возможно, и на триумф контрабандистов. «Все против меня, — подумал он. Никого на моей стороне, кроме отщепенцев, да нескольких приезжих из Лондона. Судья, адвокат, таможенники. Мне что, суждено всегда оставаться в меньшинстве?» И сердце его запротестовало против необходимости, которая гнала его из теперешнего убежища.
Комната, где они с Элизабет разговаривали прошлой ночью, была пуста. Он поискал глазами клочок бумаги, на котором мог бы написать слова благодарности, но не нашел ни бумаги, ни ручки, ни чернил. Он не осмелился подняться наверх, туда, где она спала, чувствуя, что если снова увидит ее лицо, то не сможет с ней расстаться. Однако ему казалось невозможным уйти без единого слова или знака. Он пошарил в карманах, в них не было ничего, кроме нескольких старых крошек, твердых, как дробь, и ножа. Он нерешительно поглядел на нож. Сердце подсказывало ему оставить его как дар, который может быть ей полезен, как знак его благодарности, а рассудок говорил, что очень скоро в Льюисе нож понадобится ему самому. Он открыл лезвие и погладил его. Оно было чистое и острое, на нем было грубо выгравировано — первый школьный опыт с кислотами — его имя. «Этот нож — мое единственное оружие, — подумал Эндрю. — Он мне нужнее, чем ей. На что он ей, только резать хлеб и делать тосты? А я буду беззащитным без него». — «Вот поэтому и оставь его», — взывало сердце. Жертва. Но пальцам, пробегавшим по лезвию, оно казалось таким обнадеживающе острым.
Читать дальше