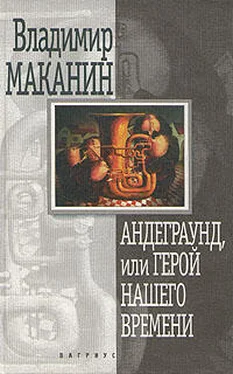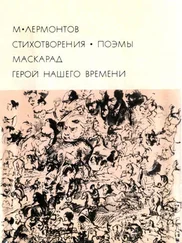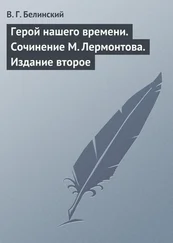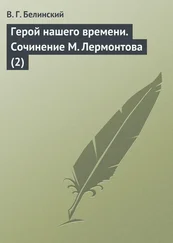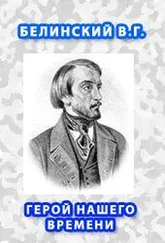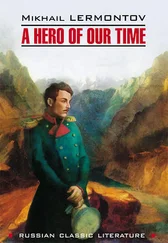Вася, не он первый, оформлялся, ничуть не сожалея и с улыбкой — с минуты признания человек улыбается стенам, даже медбратьям, так ему легко. Зато Вася, здоровея, уже не хотел, как все мы, на корточках подпирать спиной стену в сортирной курилке. Курил он в углу, сам по себе. Его уже сняли с питания, он смело крал у нас куски припасенного хлеба. Обрек себя на тюрьму, на срок, однако ходил меж нашими кроватями туда-сюда и смеялся — был легкий, как шарик в руке мальчугана, не утаил ничего. Раньше или позже это ждало других, ждало меня.
Когда препараты проникли в подкорку, во сне (в самый пик сновидения) стала накатывать острая к самому себе жалость. Как рыба, я начинал хватать ртом воздух — ух... ух... ух!.. — выныривая из воды мутных захимиченных снов. И наутро хватало отравленности: даже кашу на завтрак мы глотали с той же непреходящей к себе жалостью. Не знаю, кто так системно (Пыляев?) сбавлял или вдруг резко к ночи увеличивал дозы. Иван по-прежнему никого из нас не замечал. Лишь однажды, если не галлюцинация, на возвратном пути из инъекционной в свою палату я увидел Ивана Емельяновича (вернее, его лицо) за стеклянной перегородкой тихого отделения (где Веня). Лицо смотрело на меня. Нет, не следило. Просто смотрело.
Но когда на другой день во время вечерних уколов (все как в полусне) Маруся запоздало меня захотела, ее женская щедрость тоже казалась ее хитростью и его уловкой. В тот вечер коридоры опустели: карантинное опрыскивание, обязательное во всех углах. После укола Маруся попросила — останься, помоги прибраться. Да, Пыляеву она про эти лишние минуты сказала. Пыляева, кстати, уже нет: ушел домой!.. Я подавал ей препараты, она их прятала в шкафы, запирала. Потом вытирали пыль.
Мы убирали ампулы и бились с пылью минут двадцать. И еще минут на двадцать, я думаю, мы задержались. Усадив меня на диванчик (прямо под решеткой — дверь заперта), Маруся со слезой мне выговорила — как так случилось! как же ты, Петрович, умудрился сюда попасть, такой рассудительный и приятный человек?!. Она уверена, она убеждена, что я попал сюда случаем. (Но попал. Вот уж кусай пальцы.) Коснулась пухлой ладошкой моего плеча, шеи. Минута или эти двадцать ее лишних минут были выбраны точно и чутко. Впрочем, я уже каждый день был на сносях — был в столь расслабленно-разжиженном состоянии, что простое и участливое как ты, такой хороший, приятный, сюда попал , пухлая ладошка, плюс легкое объятье тотчас вызвали на глазах обильные слезы. Водянистые, мои или не мои, не уверен. Но слезы. Я спешно поцеловал и уткнулся лицом ей в плечо. Я раскололся. Уже и рот открыл, чтобы начать торопливый, с подробностями, искренний пересказ, вероятно, всей моей жизни. Однако остановился. Инстинкт все-таки заискрил. Насторожило одно неточное ее слово: приятным меня не называли даже в шутку. Этой словесной мелочи (чутье к слову) хватило, и — так взлетает спугнутая птица — я спохватился.
Я легко скорректировал и пустил свой (все еще искренний) рассказ, но не через боль, а поверху: да, одинок и родных никого, — да, старею!
Старею — а с возрастом, как известно, надежды на семью и домашнее тепло все меньше, а в общежитии, Маруся, живут наглые, хочешь не хочешь собачишься с ними, ссора за ссорой. «Сам убить кого-то хотел?» — «Глупости, Маруся! Это я защищаюсь. Во сне защищаюсь от наглых...» — «Как так?» — «А так...» — Я шепотком пожаловался ей, что иногда вечерами прогуливаюсь с молотком в кармане: на случай коридорной драки. Пусть не лезут, дам по балде. А в снах (не в жизни, Маруся) — в снах у меня мечта нож купить. Просто попугать их. Нож бы мне хороший, с перламутром, видный!..
Я остановился. Нехитрого и чуть приземленного объяснения (версия, что и врачам, но в бытовом соусе) ей хватило.
— Ну, ладно. Тогда давай. Только быстро, — сказала она и откинулась на диванчик.
Пока я возился со своими штанами, Маруся спросила, не сильно ли придушили мою кровь химией? — расстегнула белый халат, а с ним и блузку, оголив груди, это чтоб лучше встал, пояснила. Ее щедрое общение со мной, возможно, и не было хитростью Ивана Емельяновича, а просто минутным ее желанием. Работаешь, работаешь — скучно.
Я и кровать стали одно. Мои бока по ощущению переходили, перетекали в мой жесткий матрас — слияние было удивительно, и сначала приходила на ум мягкость слияния с лодкой на реке. С лодкой, в которой лежишь, когда ее вяло несет медленная река, с чуть заметным дрейфом к берегу. А к вечеру ощущение слияния становилось еще на порядок мягче и изначальней: это была мягкость материнской утробы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу