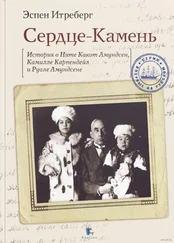Я люблю женщину во всех женщинах, моя способность любить ограничивается лишь женщиной, женщина заполняет меня до краев. Ребенок не предусмотрен. Заниматься любовью значит заниматься любовью, вот и все. Мысль о том, чтобы произвести на свет ребенка, мне и в голову не приходила. Вид беременной женщины возбуждает во мне жалость и одновременно тошноту. Когда Агата носила Жозефину, я не видел ничего, кроме чудовищного живота, готового лопнуть, чрева, где зрел паразит, как червяк в яблоке. В то время как Агата, выгнув поясницу, животом вперед, с серым лицом переваливалась, наподобие утки, гордая сознанием своей миссии: она носила человеческое семя. Священное! Тут не займешься любовью.
Но что странно, женщина, которая уже стала матерью, становится привлекательной. Послеродовые рубцы на теле умиляют меня и даже возбуждают. Я ласкаю, облизываю их, эти стигматы, свидетельства перенесенных мук…
Еще более странно, что я люблю свою дочь. Когда она родилась и была мне навязана, я испытывал только отвращение к этому куску багрового мяса, от которого исходили крики, слезы, писи и каки. Никакого инстинкта защиты по отношению к этому средоточию неприятных ощущений у меня не было. Но тем не менее я героически играл роль отца. Вовсе не Жозефине суждено было разлучить нас с Агатой. Отцовская любовь или, скажем скромнее, интерес к дочери пробудился во мне и намного позже, когда Жозефина начала приобретать человеческий облик, я хочу сказать, женский. О, в этом нет никакой патологии. В любом случае не больше, чем у "нормальных" папаш, которые замечают, что у их дочек начинают расти груди.
Итак, я больше не люблю Элоди! Совсем. И, никогда бы не подумал, испытываю от этого облегчение. Освобождение. Небо в моем распоряжении и вся земля тоже! Я птица. Птица, которая во весь дух летит к Лизон. Птица, у которой с головой все в порядке. Сумбурные сомнения и парализующие угрызения совести — все рассеялось, пока я сбегал по лестнице. Лизон, любовь моя, жди меня! Я бегу. Ты же знаешь, что я бегу к тебе, правда? Ты знаешь все, всегда…
Я резко останавливаюсь посреди тротуара. Где она живет? Только сейчас я осознаю, что у меня нет ее адреса. Даже телефона. Ведь звонит всегда она, мы встречаемся всегда у меня… Я вхожу в первое же подвернувшееся бистро, спускаюсь в подвал, где, маринуясь в традиционной вони застоявшейся мочи, соседствуют туалет и телефон, набираю двенадцать, к счастью, я знаю фамилию — только бы Изабель не поместила номер в красный список! И моментально получаю информацию, с тех пор как у них появился "Минител", справочные больше не загружены, но я не решаюсь позвонить, в конце концов, говорю я себе, лучше прямо пойду туда, сделаю ей сюрприз.
Они живут на одной из очаровательных старых улочек Марэ, в одном из старых очаровательных строений, бывших аристократических особняков, с небрежным шиком подновленных декораторами-педиками — пардон: педиками — архитекторами интерьера, — с монументальной лестницей, камень и кованое железо с завитушками, идешь и путаешься в ступенях, потому что они слишком низкие — наши предки, принцы крови, должно быть, были довольно коротконогими. В таких домах люди, к которым вы пришли, почему-то, как правило, обитают на самом верху.
Я взбираюсь на вершину и с колотящимся сердцем, не только из-за спотыкательных ступеней, нажимаю на кнопку вычурного звонка в стиле Людовика XIV, после чего где-то в глубине раздается музыкальный звон в стиле универсального магазина. Женские каблучки стучат по паркету с другой стороны двери. Лизон? Дверь широко открывается. Нет, Изабель.
Которая, увидев меня, смущается. Бормочет:
— Это вы?
Смешивается, еще больше смущается:
— Простите… Я думала, что это Лизон.
Я тоже смущен не меньше ее. К счастью, у меня есть повод сказать:
— Сожалею… Значит, у Лизон нет своего ключа?
— О, она часто забывает его. Вы ее знаете…
Еще бы я ее не знал! И если бы ее мамаша знала, насколько и как я ее знаю! Изабель, судя по всему, подумала то же, что я, и в то же время, потому что она краснеет и приходит в еще большее замешательство:
— Да… Вы… Вы хотели с ней поговорить?
Это несовершенное прошедшее время, использованное вместо настоящего, звучит во всем моем существе как боевая тревога.
— Вы не знаете, скоро она придет?
— Она мне ничего не сказала.
Мадам мамаша, кажется, преодолела свое смущение. Она находит подходящую форму вежливости:
— Но, прошу вас, входите.
— Я вас не побеспокою?
Читать дальше