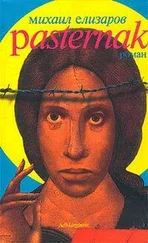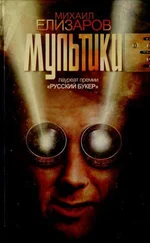Не было божка, не существовало больше моей смешной любви. Я отбросил пачкучий целлофан.
Хозяева не возвращались. Я помаленьку разоблачился: распеленал руки, совлек с проклятьями прикипевшие к туловищу футболку и джинсы. Я напомнил себе обгорелого танкиста.
Красный, как петрово-водкинский конь, зашел в море. Нырнул и поднял облако кишащих пузырьков, зашипел, подобно свежей кузнечной заготовке.
Море не успокоило зудящую кожу. Выбрался на сушу, кружилась голова, тело жарко пульсировало, будто я окунулся в прорубь.
Никто не возвращался. Солнце ушло за гору, склон сразу потемнел, поблекла нежная морская бирюза. Луна все явственнее проступала в сером небе, белый ее призрак наливался желтизной. Далекой блесткой подмигивала Венера.
Я достал часы, глянул на всякий случай. Они показывали начало десятого. Чудаковатые часы вышли из спячки и нагнали упущенное время. Или они не останавливались…
Я второй раз приложился к канистре и наполнил мою флягу. В рюкзаке завалялась случайная консервная банка скумбрии. В блокноте на последней страничке я написал чернилами послание дикарям: «Ребята, взял у вас воды, простите, что без спроса», оторвал листок и придавил консервной скумбрией, чтоб не улетел — не бог весть какой, но все ж таки калым…
Я помочился в море желтым лунным светом. И отправился наверх, искать себе ночлег. В степной траве среди полыни и шалфея я надул упругий матрас, прикрыл его парусиной. Горячей рукой в два счета дописал четверостишия — початое и новое.
Слетел нежданный серафим,
И задавал свои загадки.
Их смысл, кажущийся гадким,
По сути, был неуловим.
Слова звучали, как шарманка,
И открывали взгляд на мир.
И хлопьями летела манка
Из голубых вселенских дыр.
Без интереса и души водил пером, зная, что это — поэтический послед из прошлой жизни. Мне было чудно и одиноко. Я ощущал необратимую органическую перемену.
Я понимал, что со мной теперь навеки сияющий огненный полдень, железный треск цикады, глазастые собаки, фамилия мертвого капитана и нечистые ногти маленького горбуна.
Заранее грустил и тосковал, что с этой звездной ночи я буду только остывать, черстветь, и стоит торопиться, чтобы успеть записать чернилами все то, что увиделось мне в часы великого крымского зноя.
Берлин-трип. Спасибо, что живой
Если это уже был «трип», то начинался он желчным многословием.
— А вот я не люблю Берлин, хотя обычно всюду говорю, что город хороший. Лицемерю, как всякий человек старше тридцати, потому что всерьез его нельзя любить, Берлин, в нем нет ничего, что поражает воображение, вот в Кельне, хотя бы кельнский собор, который похож на Бэтмена, а в Берлине нет кельнского собора, а есть мудацкая телефункен на Александерплатц, похожая на чупа-чупс, и поэтому я лгу, словно герой «Служебного романа»: — Вы красавица, Людмила Прокофьевна…
Как пьяный к радиоприемнику, я приебался к серенькой, на троечку, девушке Асе из Читы (Чита — это ты стоишь перед картой Родины и тянешься вправо всей длиной руки — вот там Чита, а в ней раньше жила так себе Ася). Она сообщила, что последние пять лет учится в Петербурге, а теперь тут в гостях, и просто влюблена в Берлин.
Я впал в то состояние ума, когда речь превращается в течь:
— Любовь к Берлину — это заговор или, точнее, сговор обманутых дольщиков, желающих затащить в свою секту побольше людей, которым, дескать, понравился Берлин, хотя нет на свете ни одного города, который стоило бы любить, но Питер точно любят, а про Берлин притворяются, и девушке, выросшей в Чите, не за что любить Берлин. Я знаю двух любителей Берлина, они феерические, отпетые гондоны, вот им Берлин нравится, и знаком с одним очень достойным человеком, которому Берлин отвратителен, поэтому если тебе кто-то сообщает, что ему хорошо в Берлине, значит, он лжет, либо купил квартирку на Савиньи-платц, потому что Берлин — это Лондон для московских мидлов, и мы же не гондоны в конце-то концов, не мидлы, чтоб нам Берлин нравился?..
В однокомнатной квартире на Хиддензеештрассе я съел печенье. На вкус оно было как обычное овсяное. Вначале преломил его, сжевал свою половинку, запил пивом «Штернбург» — самым дешевым, пролетарским, пятьдесят центов бутылка.
Затем прожил полчасика и сказал безнадежно: — Не берет, Вить…
Хозяин печенья по имени Витя снова достал коробку: — Ты просто крупный. Сколько в тебе — сто килограммов? Больше?
Харьковских времен друг Леха называл травяного, как Уитмен, кудрявенького тощего Витю — «рукколой».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу