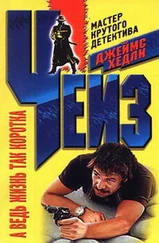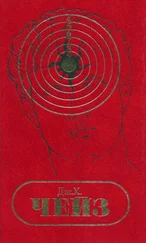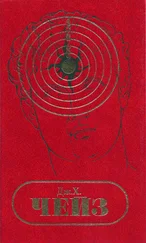Косые глаза играли двоякую роль. Когда он ухмылялся, они озаряли лицо фосфорическим отблеском, и оно казалось неземным, словно бы сюрреалистическим. Такое может явиться во сне, но не наяву. В обычном же состоянии глаза уходили под брови, придавая лицу почти сердитое выражение… Так и запомнилось мне навсегда его лицо: или не по — детски суровое, или личико ухмыляющегося бесенка.
Вечером вернулись с работы тетя Гошавнай, ее муж и их дочь Цуца. Она, как я и понял потом, была матерью Заура. Управились со скотиной, стали варить на ужин мамалыгу.
В летней кухне горел под треножником костер. На треножнике стоял чугун. В нем шипела кукурузная паста. После того, как крупа разварится, предстояло замешать кашицу на кукурузной муке, чтобы она стала, как положено, очень густой.
Мы с Зауром сидели возле костра. Ждали… Ждать было тяжело.
Голод стягивал рот, глотку и где‑то глубоко в желудке закручивался в тошноту. Целый день мы не ели ничего, кроме шелковицы.
Тетушка вышла из кухни, и произошло событие, которое мне запомнилось в ряду памятных событий этого первого дня на новом месте.
Заур неожиданно сунул руку в шипящую мамалыгу, мгновенно вытянул обратно, стал дуть на облепленную горячей мамалыгой руку. Вернулась тетушка. «Опять!» — закричала она. Схватила стоявший в углу веник и с размаху ударила им Заура по голове. Он, издавая отрывистые звуки, стал прятаться за мою спину. Тетушка грозила веником еще некоторое время, потом помешала пасту и снова вышла. Заур как ни в чем не бывало выпрямился, стал слизывать с руки застывшую кашицу. Зашла на кухню его мать, проворчала: «Опять ты этим занимаешься!..» — но особо сердиться не стала.
Вышла с кухни и она. Мы снова остались у очага одни. Заур обратил ко мне лицо, ухмыляясь бесенком. Я поразился открытию, которое он подсказал мне этой своей ухмылкой: руку он совал в мамалыгу не только из‑за голода — он хотел насолить взрослым! Может, за то, что мы целый день были голодными?
Догадку подтвердила и вернувшаяся на кухню тетка. Она, бра
ня его по второму заходу, указывала на деревянную лопатку — баляг, которой мешала мамалыгу и которой мог бы воспользоваться Заур, если уж он так «подыхает с голоду». И причины суровости наказания прояснились — его наказывали не за попытку попробовать мамалыги раньше, чем она будет готова, а за другое: за «зловредность», за бунт против взрослых. Однако, если говорить по большому счету, он имел право на этот бунт…
На следующее утро Заур уже не щипал меня своими железными клещами — пальцами. Он совал мне в нос что‑то черное, липкое. Это была подгоревшая корка мамалыги — она остается в чугуне, когда из него выберут мамалыгу. С внешней стороны она белая, а с той, что прилегает к чугуну, черная и липкая. «Подошва», пригорающая на весь чугун, была нашим лакомством.
Заур, испачканный липкой черной стороной корки, жевал ее сам и предлагал мне мою долю.
Дружба наша стала вскоре давать реальные плоды. Мы научились лазить в соседские сады и огороды. Были и другие занятия: мы спускались к берегу Тщикского водохранилища, подходившего к самому огороду, снимали трусики и начинали бить вшей. С тех пор я запомнил: вши — как хамелеоны, принимают окраску хозяина. Мои были светло — желтые, а его темно — серые. Если Заур находил у себя мою вошь, с возмущением возвращал мне ее, чтобы с ней расправился я. Соответственно поступал и я.
Расправившись с большими, мы оставляли меньших: пусть подрастут для последующего боя. И шли купаться.
Взрослые возвращались с работы уставшие. Бывало, они натыкались на каверзу, заранее подстроенную Зауром. Вдруг могли исчезнуть в доме все ведра. Он их не прятал — просто заранее относил к колодцу. Если в это время он попадался им под руки, его колотили. Мать его часто восклицала: «Аллах послал тебя на мою голову, как беду!».
О том, что он может быть не зловредным, а добрым, свидетельствовало его отношение ко мне. Оказавшись в одиночестве, моя детская душа потянулась к его душе и нашла понимание. И не только понимание, но и поддержку. Заур делился со мной навыками выживания в тех трудных условиях. Одного я тогда не понимал — той партизанской, непрерывной войны, которую он вел против взрослых. В этой борьбе он мстил им и за каждый отдельный случай, и за отношение к себе в целом. Войну он вел не жалея себя, не на жизнь,
а на смерть.
Как‑то приехал на побывку младший сын тетушки — Нурбий. Не призванный на фронт по возрасту, за время войны он подрос. Работал прицепщиком, научился водить трактор. Он жил в бригаде, там спал и питался. Так не хватало тогда трактористов. Конечно, тетушка — после гибели старшего сына — очень его любила.
Читать дальше