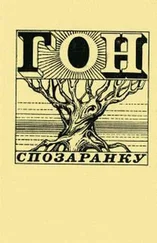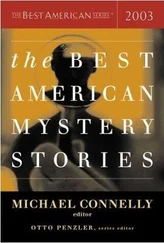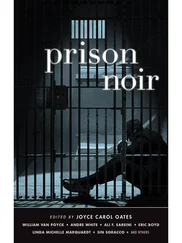«ДОРОГОСТОЯЩАЯ ПУБЛИКА»
Бывает страшно подумать, что воображает о тебе другой, и лишь немногие имеют несчастье обладать даром читать чужие мысли. Мы все страдаем подозрительностью, самоедством и смутным ощущением собственной обреченности, но только писателям и прочим эксгибиционистам ведома жуткая правда о самих себе. Заурядная публика не знает ничего. Подозревает, и только. Всем все равно, никакого интереса. Люди умирают, о них забывают. Я, Ричард Эверетт, умру и буду забыт и никогда не узнаю истину о самом себе, если только эта «истина» существует, и потому…
И потому я сам вывел некоторые истины. Я их вывел прошлой ночью. Надо бы попридержать их для послесловия, но мне неймется, я алчен, я самоед, и вот, извольте. Что будет со мной после смерти, я не слишком хорошо себе представляю, но, видимо, что-нибудь все же будет. Может ли статься, что вы прочтете эту книгу в 1969 году или несколько позже? Я так отчетливо это себе представляю, картинка слизняком влипла в мое сознание, потребуются неимоверные усилия, чтобы ее отодрать. До того дня, когда появятся первые рецензии на мой многострадальный труд, я не доживу, и в этом у меня никаких сомнений нет. Но мне кажется, отзывы эти будут примерно следующие.
«Нью-Йорк Таймс Бук Ревю»:
«Существует расхожее (хотя и несколько абстрактное) суждение, будто плод безумного, горячечного рассудка непременно носит безумный и горячечный характер, как будто разум, подобно Кантову колену, способен совершать загиб только в одном направлении. Подобная догма могла бы быть справедлива лишь в случае, если „глас“ безумца настолько истеричен, что сам перекрывает, можно сказать, поглощает привычную для писателя горячечность. Оставив в стороне выспренность, вернее, беспомощность слога, скажем, что в целом риторическая проза „Дорогостоящей публики“, пожалуй, не столько горячечная ажитация, сколько бред, и не столько трагический всплеск, сколько сентиментальная эклектика (в духе „китча“)…»
«Тайм Мэгэзин»:
«Перед нами сумбурное и путаное повествование о ребенке, мать которого — известная великосветская сумасбродка, а отец — милейший глуповатый простофиля. Действие происходит в исключительно обеспеченном кругу, именуемом Предместье. На лицо амбиция пересартрить Сартра, что автору не слишком удается. В целом сюжет довольно забавен. Как водится, герой испытывает сложности в отношениях с матерью. Однако по ходу книги все как будто разрешается. Множество потуг на всякие выверты, но все это под стать сырому пороху: шуму много, а толку мало. За всем этим угадывается чья-то направляющая рука (нам предложено принять на веру, что автору всего одиннадцать лет!). Тут явно не обошлось без чьей-то профессиональной помощи, как и в блистательных документалистских образчиках, повествующих о жизни эскимосских или новозеландских народностей. Разумеется, нечто подобное нам уже известно, но в более талантливом исполнении Джона О’Хары и Луиса Окинклосса. Однако кое-где, когда голос Эверетта восходит к свойственной вышеозначенным мастерам поэзии экстаза, пожалуй, его проза становится достойной внимания».
«Нью-Рипаблик»:
«В буквальном смысле „Дорогостоящая публика“ представляет собой воплощение страданий нынешнего поколения, выраженных поэтикой исстрадавшегося ребенка. Как бы средством от сглаза, скажем, для одной из граней подразумеваемых в романе процессов, становятся бесконечные нагромождения малозначащих деталей (описание предметов быта семьи среднего достатка, бытовая символика), с головокружительной скоростью пролетающих перед взглядом малолетнего повествователя, который пребывает не только в навязчивых мечтах о прелестях мелкобуржуазного достатка (что в самом романе так и не явствует), но и еще в навязчивых мечтах о грядущей литературной карьере, воображая, что он способен сузить сложнейший социологический материал до микрозрительского восприятия. Ибо Эверетт как раз стремится достичь в своей книге мифически-сексуально-социологического охвата и демонстрирует полную свою несостоятельность, неспособность выйти за рамки общепринятого психо-сексуального восприятия в область метафизического и культурно-философского сознания. Вся заслуга автора — в показе обреченности ребенка: характерный для Америки образец потерянности среди законов бытия, в условиях нашего извечного проталкивания сексуальной темы в область искусства и отсюда чрезмерное эксплуатирование сексуальной темы, превращение ее в наполненную символикой, смутную метафору. Подобная проблема всего лишь два месяца назад нашла свое воплощение в спектаклях труппы „Смутное представление“ одного современного любительского театра из Сан-Франциско, где нарочитый подбор определенных обрядовых аналогий с акцентированием в драматургии социальной символики раз и навсегда (по крайней мере, на мой взгляд) высветил смысл всей проблемы. Колоритная постановка этой труппой пьесы „Genghis Proust“, действие которой происходит на совершенно темной сцене, была уже пространно отражена на страницах „Нью-Рипаблик“, и мне больше нечего к этому добавить, разве что подчеркну, что лично у меня осталось ощущение, что только в такие моменты нравственного беспредела и возможно нахождение новыми силами надлежащих путей для создания революционного произведения. И потому я считаю „Дорогостоящую публику“, эту традиционную прозу в духе Чарлза Диккенса, неудачным литературным опытом».
Читать дальше