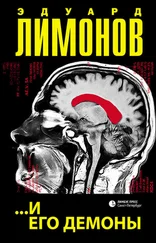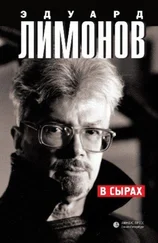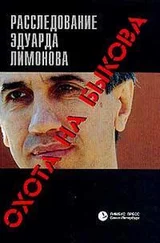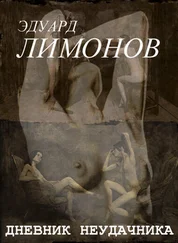— Таких людей, как Вы, Эдуард Вениаминович, больше нет, во всяком случае, я таких не встречал и о таких не слышал. Я думаю, Вы отлично можете разруливать, мудро разрешать споры. Надо Вас выдвинуть.
— Нет, Павел Владимирович, я Вам уже сообщал. По моему мнению, у меня косяк есть. Я в воры в законе не гожусь. Меня и в простые блатные не примут.
Паша Рыбкин стал убеждать меня в обратном. Потом мы опять заглохли. Наконец явились soldaten и меня с сумками и с матрасом под рукой повели на первый этаж. Я было заикнулся, что в один раз не унесу столько вещей, но ехидные soldaten ободрили меня: «Унесешь, ты тренированный». И я унес. Матрас я сдал. Меня тут же отшмонали на продоле напоследок по всем лучшим стандартам двойки — с приседаниями в обнаженном виде, переворачиванием листочков рукописей, щупаньем резинки трусов. Физиономии при этом у всей этой команды были, впрочем, не злые. Задним фоном для этой сцены служила уходящая к самому выходу шеренга зэков, сидящих на корточках у своих вещей, ладони на затылке. Уходя вдаль, зэки уменьшались в размерах, лысые тыквы голов все меньше и меньше…
В качестве последнего подарка администрации меня вместе с вещами поместила в пустую хату с четырьмя шконками. Там я просидел часа три или даже более того и вволю наслушался «Радио на семи холмах», влетавшего сквозь амбразуру с зоны. Находиться в чужой пустой хате накануне переезда в другую тюрьму оказалось интересно. Детонированные новым окружением, у меня живо двигались мысли, работали чувства. Я даже, в конце концов, сумел испугаться, когда через два часа меня так и не вызвали, а снаружи не раздавалось никаких голосов. Я представил себе, что тюрьма переехала, а меня забыли. Несмотря на идиотизм предположения, я перешел к действию, стал стучать в дверь. Долгое время никто не обращал на мой стук внимания, возможно, не слышали. В конце концов, в волчушке появился один большой водянистый глаз с плавающим серым зрачком и спросил: «Чего тебе?» Я попросил, чтобы меня не забыли в тюрьме. Мне серьезно ответили, что не забудут. Никакой насмешки. Обещали не забыть.
Прошло еще часа два. В амбразуре камеры уже было кромешно темно. «Радио на семи холмах» то и дело прерывалось объявлениями администрации зоны. Судя по объявлениям, на зоне свирепствовал 47-й год. Упоминались «ударники» и «передовики». Все-таки замки открыли, меня вывели и провели в самую голову шеренги. Без очереди. Я уселся на корточки и положил руки на затылок. Ввалилась команда тяжело снаряженных в валенки и тулупы милиционеров, псов-рыцарей, и нас стали опознавать.
Я встал. «Шапку! Сними! — пролаял принимающий рыцарь-мент. — Почему волосы?» — рыкнул он.
Но наш мент с двойки что-то шепнул ему и показал в бумагах. «А, базара нет!» — воскликнул мент. Я пошел в воронок первым с моими тюками. Набилось нас в воронок с вещами 11 человек в одну голубятню и 10 человек в другую. Сдавленные, придавленные и замерзшие, зэки, однако, были возбуждены, счастливы. Все были рады покинуть двойку и уверены, что хуже, чем на двойке, нигде не будет. Зэки вслух мечтали, что попадут на третьяк.
Через морозную темную ночь нас привезли вначале на 33-ю зону, где выгрузили шестерых. А ближе к полуночи мы въехали во двор главного корпуса Центральной тюрьмы города Саратова. Выгрузились на продол первого этажа. Пришла фельдшерица в резиновых перчатках. Нас обыскали на предмет вшей, наличия побоев и синяков. Спросили, есть ли среди нас спидовые и туберкулезники. В конце концов, нас всех загнали в угловой отстойник, с которого я начинал свою тюремную жизнь в Саратовском централе 5 июля.
Еще более драматично все это выглядело бы, если бы происходило в новогоднюю ночь. Но событие происходило за пять ночей до новогодней, на вторую ночь после католического Рождества, в счастливый праздничный период года, называемый в западных странах Season of Greetings — сезон поздравлений.
В отстойнике зэки дружно закурили. Тринадцать из них были нормальными пацанами. Один обильно ругался и хвастался. Чем вызывал отрицательные эмоции. Через час нас стали группами выдергивать из отстойника. Я попал во вторую группу.
Нас привели в помещение для шмонов. Меня поманил к себе рукой тот самый длиннолицый офицер в фуражке с высокой тульей, который провожал меня, шмонал две недели назад, отправляя на двойку. «Опять к нам? — сказал офицер. — Что, не понравилось в Энгельсе? Запрещенные предметы есть?»
Длиннолицый шмонал дружелюбно и неторопливо, расспрашивая меня обо мне. Форму шмона он соблюдал (я снял трусы и приседал), но по молчаливой договоренности мы вместе лишили эту форму сути. Я не просил его о послаблениях, но он мне эти послабления давал тем, что не копался в моих бумагах, не заглядывал в мои письма и лишь на поверхности касался моей одежды, в то время как он должен был ее сжимать и ощупывать. К часу ночи офицер проводил меня на склад, где я сдал мои баулы, а в ответ получил квитанцию о приеме от меня баулов.
Читать дальше