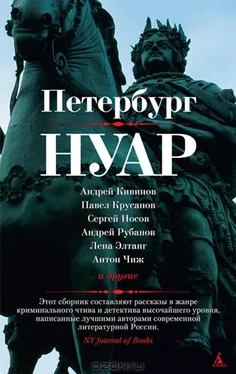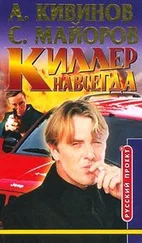— Вот мы и встретились, Сергунчик.
Чёрный человек говорил с неуловимым акцентом.
Интересно, как они это сделали — грим? Непохоже — наверное, всё-таки маска.
— Пришёл твой срок, — продолжал человек в пальто, садясь за стол.
Поэт про себя вздохнул — тут надо бы сыграть ужас, но что знает собеседник о его сроке. Можно сейчас глянуть ему в глаза, как он умел, — глянуть страшно, как глядел он в глаза убийце с ножом, что пристал к нему на Сухаревке, так глянул, что тот сполз по стене, выронив свой засапожный инструмент.
Но сейчас Серёжа сдержался.
— Помнишь Рязань-то? Помнишь, милый, детство наше…
Это было бы безупречным ходом, да только кто мог знать, что Серёжино детство прошло совсем в другом месте.
Какая Рязань, что за глупость? Он родился в Константинополе.
На второй год Революции Серёжа встретился с Морозовым, только что выпущенным на свет шлиссельбургским узником. Старика-народовольца неволя законсервировала — он был розов, свеж, грозно топорщилась абсолютно белая борода. Морозов занимался путаницей в летописях и нашёл там сведения о нём, Сергунчике. Он раскопал, что переписчики перепутали документы (знал бы он, сколько это стоило) и заменили Константинополь на Константиново.
Они шли здесь же: по левую руку была мрачная громада Исаакиевской церкви, знаменитого собора, а по правую — эта гостиница, в которой переменялись судьбы.
Старик с розовой кожей хотел мстить истории и решил начать с поэта, то есть с него.
Под ногами у них росла чахлая трава петроградских площадей и улиц.
Старик ждал ответа, и борода торчала, как занесенный для удара топор.
Серёжа улыбнулся, глядя ему в глаза. Кто ж тебе поверит, старичок, разве потом какой-нибудь академик начнёт вслед тебе тасовать века и короны — но и ему никто не поверит.
А сам он хорошо помнил тот горячий май пятьсот лет назад, когда треск огня, крики воинов Фатиха и вопли жителей окружили храм. Со звоном отскочили петли, и толпа янычар ворвалась внутрь. Среди них было несколько выделявшихся даже среди отборных головорезов Фатиха Отрок знал — эти воины, похожие на спешившихся всадников, были аггелами. Лица их были будто выточены из дерева.
Звуки литургии ещё не стихли, и священники один за другим вошли в расступившуюся каменную кладку, бережно держа перед собой Святые Дары.
Отрок рвался за ними, но старый монах схватил его за руку и повёл через длинный подземный ход к морю. Они бежали мимо подземных цистерн, и в спины им били тяжёлые капли с потолка.
Монах посадил его на рыбачью лодку, в которой два грека хмуро смотрели на полыхающий город.
Это были два брата — Янаки и Ставраки, что везли отрока вдоль берега, боясь терять землю из виду.
Он читал им стихи по-гречески и на латыни — море занималось цензурой, забивая отроку рот солёной водой. Но скоро они достигли странной местности, где степь смыкалась с водой, и отрок ступил на чужую землю.
С каждым шагом, сделанным им по направлению к северу, что-то менялось в нём.
Он ощущал, как преображается его душа, — тело теперь будет навеки неизменным.
Он стал Вечным Русским — душа была одинока и привязана не к земной любви, а к небесной. Но никогда не забывал он о Деревянных всадниках — ибо про них было сказано ещё в Писании: Михаилъ и аггли его брань сотвориша со змiемъ, и змiй брася, и аггели его. Сражение это было вечным.
Гость в чёрном бубнил что-то, время от времени посматривая на него. Верно, решил, что Серёжа совсем пьян.
Точно так же думал мальчик, что приходил вчера, — в шутку Серёжа записал ему кровью свой старый экспромт и понял, что случайность спасла его тайну.
Кровь сворачивалась мгновенно — пришлось колоть палец много раз. И только наивность мальчика не дала ему заметить, как мгновенно затягивается ранка.
Стихи — вот что вело его по жизни, но этот виток надо было заканчивать. Он действительно обманулся во времени, Вечный Русский купился — купился, как мальчишка, которого папаша привёз в город. Да тайком сбежав, проиграл мальчишка все свои, замотанные в тряпицу, копеечки на базаре.
Его предназначение — стихи, а стихов на этом месте не будет.
Без стихов вечность ничего не значит, всё остальное ничего не значит. Вот когда он дрался с известным поэтом Сельдереем, то внезапно почувствовал его особую ненависть. Только сейчас он догадался, что Сельдерей ненавидел не его, а судьбу. Судьба распорядилась так, что Вечный Жид, вечный поэт-еврей — не он, а нищий Мосштамп. Сельдерей не понимал этого вполне, он, как тонкая натура, просто чувствовал обман судьбы и дрался именно с ней, а не с товарищем по цеху.
Читать дальше