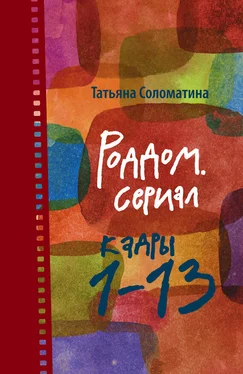— С нами, детка. С нами! — уточнил Святогорский. — Ты теперь тоже наша, за одним столом с нами сидишь. Всё нормальным людям понятно. И ПГТ. И ЦРБ. Это тебе, птичка, такие аббревиатуры непонятны, потому что у тебя сперва папа с мамой московские, затем училище — московское же. А после уже и мужик сразу солидный, при должности, при ремесле. А нормальным людям всё понятно, потому как понимание у них — это такой вид ткани, регенерирующей на месте сорванной опытом кожи.
— Да отстань ты от ребёнка! — хлопнул друга по плечу Фирсов. — Ну и, в общем, дежурю я в той ЦРБ. Я тебе там и я, и Кудин, и в жопе один. Типа и врач приёмного, и хирург, и анестезиолог. Земский лекарь, короче, ни дать ни взять!
— Вам смешно, да?! — вдруг окрысился молоденький ординатор из гастрохирургии и даже всхлипнул. — Вам бы всё хиханьки-хаханьки! У меня сегодня девушка умерла…
— Она, брат, не у тебя умерла. Она у себя умерла. У своих родных и близких. У заведующего отделением, у главного врача и даже у гор-, обл— и Минздрава. Но не у тебя! Выпей… как тебя там?…
— Вадим Александрович! — истерично пискнул ординатор.
— Выпей, Вадик! — Фирсов налил молоденькому ординатору стопку до краёв. — Выпей за покой своей души — заметь, не за упокой умершей девушки! — выпей и послушай взрослых! Нам не смешно, Вадик. Нам грустно. И даже больно. За каждую отдельно взятую девушку. И за каждого отдельно взятого юношу. Ты не поверишь, Вадик, нам даже за тебя тревожно, как за самих себя. Потому что все там были!.. И все там будем. Там, неизвестно где… Точнее, известно — под землёй в деревянном ящике или пеплом над каким-нибудь любимым водоёмом, где сиживали с удочкой. Пей, Вадик!
Молоденький ординатор не заставил себя долго упрашивать.
— Она… Она… Её оперировал заведующий. А у неё… У неё открылись повторные кровотечения… Желудочно-кишечные. Некроз… Массивный некроз… А потом начался ДВС. И… — он всхлипнул и зарыдал.
— Вот и я так же плакал когда-то, Вадик. Так что послушай наши «хиханьки-хаханьки», уважь ветеранов медицинского спорта. — Фирсов прикурил сигарету. — Можете есть вашу сёмгу, Татьяна Георгиевна. Я же вижу, что вы голодны. Присутствующая здесь публика вообще не слишком чувствительна к разного рода физиологическим и патологоанатомическим подробностям. Я уже промолчу о том, кем считают нас добропорядочные обыватели, раз уж и Вадим Александрович обвинил нас если не в цинизме, то как минимум в шутовстве. А мы — не такие! У каждого из нас есть своя первая смерть! И я, на правах заведующего отделением анестезиологии и реанимации, на правах ближе всех находящегося к той неведомой переправе неизвестно куда, первый расскажу о своей первой смерти! Солидно звучит: «Моя первая смерть». Философски многозначительно, я бы сказал! — пафосно и таки немного шутовски произнёс Дмитрий Андреевич. — Дежурю я в сельской больничке один за всех, и всеми своими членами — за одного. День выдался заполошный. Помню я его во всех подробностях, но не буду слишком утомлять вас деталями, не относящимися непосредственно к моей первой смерти. И вот, около девяти вечера. Передышка. Сел я себе в комнатке врача приёмного. Сижу, хлеб с колбасой жую, чаем «Со слоном» запиваю. Никого не трогаю. Ни медсестёр — потому что там такие медсёстры были, что мне не окучить даже по молодости. Ни друзей-товарищей, потому что друзья-товарищи кто где, а в той сельской больничке только главный врач, в район по делам уехавший, да начмед номинальный — он же нарколог и эпидемиолог, — вусмерть пьяный с сильным фурункулёзом в хате у себя спит. Да и кого мне трогать, когда тиха украинская ночь… Тогда, Вадик, была такая большая страна, что на легендарной сумке нашего уважаемого Аркадия Петровича латиницей прописана. И после первого меда вполне себе можно было загреметь по распределению в тихую украинскую ночь, которая не была тогда иностранной. «Поужинаю, — думаю, — и баиньки!» Очень уж спать хотелось. Организм молодой, после потрясений типа раздробленных в колхозной молотилке конечностей отдыха требовал. Но не тут-то было, Вадик, не тут-то было! Человек, как известно, предполагает, а бог как хочет, так и совокупляет того человека, культурно будет сказано. Прибегает в приём баба беременная. Вся в слезах, прям как вы сейчас. И визжит: «Убили!!! Убили!!!» «Кого убили?» — уточняю. «Мужа, мужа моего убили!!!» А баба сама растрёпанная, морда вся слишком гиперемированная. Такая, знаете ли, Вадик, гиперемия, что назавтра всеми гепариновыми красками расцветает. То есть явно кто-то бабу по лицу бил. На то указывает не только гиперемия и уже образующиеся кровоподтёки, но ещё и кровь, струйками стекающая из углов рта и из ноздрей. Я бабе давай ПХО [19] ПХО — первичная хирургическая обработка.
предлагать, а она у меня из рук вырывается, кричит: «Убили!» Тут фельдшерица моя, в три дня на галопе не обскачешь, вылезла и говорит: «Что, Маруся, доигрался твой Петро?!» А та всё знай своё: «Убили!!!» Фельдшерица бабе седативного вколола, меня даже особо не спрашивая, и говорит: «Поехали, Андреич, до того Петра!» «На ком, — спрашиваю, — поехали?» «На своих двоих! — отвечает. — Они тут недалеко живут. Он у неё как упьётся — так сразу давай молотить без разбора, кто под руку попадается. Её, старшего мальчонку, соседей. Видать, с кем не тем подрался». Я фельдшерице своей, Демьяновне, и говорю, мол, милицию надо вызывать, «Скорую». «Вызывать, — спокойно она мне так отвечает, — можно. Когда приедут только — неизвестно. К тому же никто его там не убил. То так — фигура речи, метафора. Ты ж тут новенький, из города опять же, не знаешь, что у нас как чего — так сразу: „Убили!“ Идём, мил-человек доктор Митя, физраствору наладим по вене да зелёным бриллиантовым его, гада, зальём по самые гланды». Бабу эту, Марусю беременную, заволокли спать в мою комнатку да и пошли по той тихой украинской ночи, где ни зги не видать, потому что очередной пьяный механизатор три недели назад столб с последней работающей лампочкой сшиб.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу