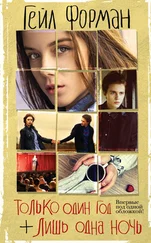Пахнет сырым бетоном и тряпкой.
— Минутку! — говорит Алла. — Моя кровь дома?
— Кашлял.
Свет слепит, отражаясь от лба. Оказывается, уже час. Надо на Большую Пушкарскую. Надо как напильник. Для чего и на Пушкарскую. Напильники забрать. Он мои напильники не съест. На углу Ковров.
— Далеко? — спрашивает Ковров и вертит пальцами.
— Так. Гуляю.
— Так гуляет! Тут одно место, — и тянет меня за рукав.
Фургон перевозки почты переезжает трамвайные рельсы.
Водосточная труба выплёвывает на асфальт свои ледяные внутренности. Симулируя сумасшествие, психи проглатывают ложечки.
— Срежем через дворы, — предлагает Ковров. — У меня, кстати, руки чистые, мылом мою.
— Причина не в мыле.
— А в чём?
— Тебе не понять.
В чердачном оконце вспыхивает электросварка. Через три двора — на Кропоткина. Зря я иду за Ковровым. Знаю, что зря, а иду. Скоро Пасха.
— Предупреждаю сразу, — говорит Ковров, — девка — зверь.
Я думаю вот что: лестницы — как поезда. Ковров жмёт звонок в квартиру, словно хочет выдавить глаз. Упав, хватаюсь за перила. Ковров смотрит на меня загадочно, сверху вниз, покачиваясь на своих итальянских лодочках.
Курят, немытые окна, на кухне сжигают цыплят. Рыжая девка ставит стул и наливает штрафной стакан.
— Закосеет!
Слюнки текут, как у подопытной собаки Павлова. Галинка суёт гантель и тарелку с металлической стружкой: хряпай, кочерга, ломом будешь!
Спускаюсь по ступенькам и думаю: ну что я за человек? Какая дурь затащила меня за Ковровым? Шёл бы себе за бессмысленными напильниками на Пушкарскую.
Лежу, непомерно вытянутый в длину, гулкий, как коридор, и во мне голоса, шаги. Сам иду, коридор знаком, и справа, и слева таблички, на каждой: ЦЕНТР.
Я читаю: не те центры. Того, что нужен, здесь нет. И опять блуждаю по бесконечному коридору, путешествую в лифте, и везде: шаги, шарканье. У меня папка.
Я не уверен в их сходстве, они отнюдь не братья. Я мог бы перечислить их различия по пунктам, загибая пальцы. Новый поворот — очередной пункт в различиях. Сколько я загнул пальцев, столько машина сделала поворотов, удаляясь и удаляясь от центра к окраинам. Прекратить! Они, как две братские капли дождя на лобовом стекле. Словно в игре, выкидываю все пальцы.
Козырная десятка накрыла город. Стремительно лечу к центру.
Стоп. Грязно-серое здание, в окнах — мрак, иду, ноги-свинец, лестница, окурки. Шестой. На площадке детская коляска, в коляске кукла с оторванной головой и пачка старых газет. В темноте белеет табличка: ЦЕНТР.
Распахивает зверского вида бородач, шрам через харю. В руках короткий автомат.
— Только не в живот! — кричу ему.
Он буравит мой пуп огненным сверлом.
Суббота, окно дует. Ворона, сев на мусорный бак, раскидывает по двору бумажки. Капли, методичные, как время…
— Где это я? Хлебозавод?
— Какой хлебозавод? Смотри!..
Безлюдный бульвар. В звонкой бочке сердце заведено на смерть. Мясник глядит из-под складок красного мяса:
— Марш в машину!
Дом, садик, решётка. Четвёртый этаж. Нетерпеливый звонок.
— Открывай!
Лязг запоров. Старик видит и пытается захлопнуть. Молот обрушивается ему на голову. Грохочет костыль. Лежит в прихожей, ощерясь искусственной челюстью.
— Пожалуй, и к лучшему, — мясник в кресле, бобровая шапка, полушубок расстёгнут, покачивает лакированным рылом на рифлёной подошве.
— Дует. Закрой окно! — приказывает мне. Я боюсь шагнуть. Луна — как серебряный выстрел. Я сыграл роль, секунды мои сочтены. Кто-то, скрипя, проводит по стеклу пальцем. Омерзительный звук.
Бегу на мороз. Там встречает балаболка-очередь. Чурбаки лежат на снегу. Или трупы? В машине пусто, дверца раскрыта, рой пуль.
Смотрю в ужаленное лобовое стекло: бегут, накренясь, коробки. Поворачиваю, мчусь по проспекту. Всё позади. Уношусь в ночь по пустынной автостраде.
Воскресенье, июльский день. Взял газету: строй матросов на праздничной палубе, офицеры в белых перчатках, с кортиками, адмирал-орёл, рука у козырька.
Невский затопила орда моряков в белых праздничных рубахах. Братва шумно стремилась к набережной, над садом плыл золотой адмиралтейский фрегат.
Пошёл за матросами. Свои в доску, в тельняшку, бурные, в бескозырках.
— Куда, бомбовоз? — нагнала шлюха. — В бега?
— Га-га-га! — грохнули матросы белозубым смехом. Чёрные змейки, бронзовея якорьками, взвились у затылков, льнули к загару шей. Тельняшки штормили, глаза-буревестники. Замер в нерешительности между ними и разъярённой блудницей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Екатерина Кариди - 7 и одна ночь [СИ]](/books/25774/ekaterina-karidi-7-i-odna-noch-si-thumb.webp)