— Привет. Вот и я, — сказал Алексей Петрович, жертвуя рукопожатию ладонь мягко полусогнутую, будто прячущую шерстяной моток не крупнее весеннего абрикоса.
Всё мясцо на лице Петра Алексеевича тотчас приподнялось, заискрилось под толстенной оправой очков, воздвигнутых на жировых отложениях скул, точнее — всаженных в них, ибо по снятии дужек обнаружились выемки: так метят снег зыбушьи колёса, выдернутые на рассвете после ночной вьюги кузнецом, — лишь хрястнет наст смачнее калантаря эскимо под ноющими резцами, подстёгиваемые непоседливым языком, словно солдатушки-бравы-ребятушки, эти супостаты новонарождённых лакедемонских, в сторону Индии прущих бестий — хлыстом пулемётных очередей заградительных батальонов.
Впрочем, подобный же розоватый отпечаток оправа оставила на переносице, меченной сливовым пятном (Алексей Петрович знал даже её нервические истоки — недавний холокост почечуя, этой вендетты Духа Святого усидчивости математика): «Ну, да не перекроить ли мне лицо отца моего? Поприжать оттопыренные полупрозрачной дужкой уши, приуменьшивши их; разъять по-визалевому шейные мускулы, перековавши их вкупе с бёдрами и грудью на андалузский лад; ужесточить надгубную складочку, вознести, отевтонив её, горбинку переносицы да воском залить оба жировых желоба подбородка (а то — экая пытка залезать туда бритвой!); сотворить на щеках ямку с аметистовой штриховкой, присущую под старость марафонцам, коим скитала скитальцев набивает на обеих ладонях роговую оскомину: в неё играючи входит царский тирс, тотчас расцветая, обвивая доброго вестника на бегу, — так что с соседнего холма видятся лишь до самого солнечного сплетения карнеоловыми пятнами вздымаемые колени, точно бегун тороватее, чем пред престолопомазанием, раздаёт милостыню мау-тайевых нокаутов.
Только так! Рассечь человека, будто евразийскую карту! Да сызнова составить по-своему, приделавши ему и клюв, и хвост с трещоткой, и неотъемлемый, запрокинутый к Ананке взор, — как единственный способ вызволить в будущем из изуверских лап тельце сверхпоэтического цесаревича, тут же воздавши ему по-Божьи. Но стоит лишь проявить излишнее почтение к заранее разлинованной плоти, и — гибель тебе, отрок, связанный речью Пушкина, протиснувшегося наконец прочь из народного окружения да пожимающего плечами!..»
К Алексею Петровичу хлынули мягкие ладони с проодеколоненной щекой, к коей Алексей Петрович приложился своей, молниеносно отпрянувши, уколовшись собственной щетиной и высвобождая, потянувши её к себе, кисть — так в урчащем нутре лабиринта натягиваешь, проверяя её на тетивную добродетель, нить.
— Просто мистика! Который час жду! Мы уж волнуемся. А Лидочка больше всех. Чтоб самок… самолёт сел из-за грозы! Тут уже одного русского провели в нарушш… никах. Я думаю, как бы с тобой ничего не случилось… — Алексей Петрович, всё далее отстраняясь, опустил рюкзак на пол, не зная, чему более дивиться: отцову ли дисканту (таким рычит на охотника дряхлый секач), обнаружению ли некоей Лидочки или ридикюльчику (в позднесоветскую эпоху такое приспособление, с лёгкой аксёновской руки, окрестили как Петрусеву невесту), который Пётр Алексеевич уронил и поднял, исторгнувши из него ямщицкий перезвон, одновременно вправляя кулаком серый куль брючной грыжи да прикладывая ухо к телефону: спереди — сплошное лицо, с хребта же — алый, в огненных рубцах, как князь-рудокоп, иссечённый катом-геометром per il loro diletto. А впрочем, Пётр Алексеевич оказался тем же: грузным, вялым, сыздетства закрывающим весь сыновий кругозор, если, бывало, оказывался спереди, — и всегда-то хотелось заглянуть ему за спину, словно она заслоняла нечто кровноярое, желанное, наконец растворяющее в себе. Тайны этой Алексей Петрович, однако, тогда не проник, как не силился усмотреть запретное, приучивши себя, с тех времён ещё, скакать во все стороны. Ох и доставалось ему за эти прыжки!
И сейчас, каждый раз, когда взоры Алексея Петровича и Петра Алексеевича скрещивались, они тотчас разбегались, — так коренной парижанин, ненароком угодивший в оккупированные предместья, пугливо отворачивается от многооких манипулов местного эмира. Так же косясь влево, Алексей Петрович двинулся к выходу, издали прощаясь с брахманом, одолевшим, наконец, чалму, как Аполлон — трофейные извороты Пифонова трупа.
Алексей Петрович узнавал от теперь размягчённого тенорка и о ремонте в новом, «почти трёхэтажном» доме, и об обрезании кошачьих когтей, и о диковинной дороговизне стоянки, приютившей прошлогоднюю высококолёсую «Мазду Миллению» — истинный житель Лютеции, Алексей Петрович автомобилями брезговал, а потому подивился ( fut étonné — процедил бы перунник Марсель) панибратской классификации машин.
Читать дальше
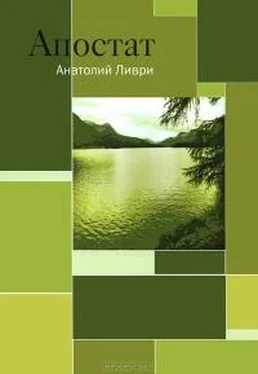

![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](/books/77555/anatolij-livri-ecce-homo-rasskazy-thumb.webp)







