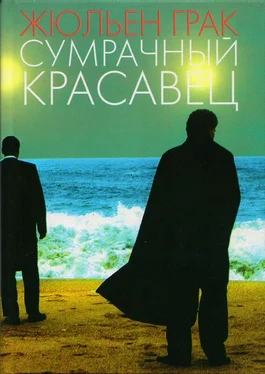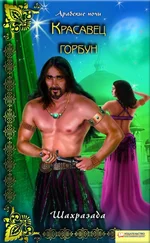Потом под присмотром надзирательницы мы снова шли в класс: маленькое, увечное, дрожащее от холода стадо, стриженые овечки, покинутые Провидением. Голос у надзирательницы помимо ее воли делался тише, мягче (нас ведь оставалось совсем мало, не надо было кричать, чтобы мы расслышали), и я воспринимала это как ласку, как выражение сочувствия. Я шептала: "Бедная, бедная Кристель!" В это мгновение я чувствовала, что становлюсь услужливой, доброй, заботливой — страшная несправедливость, которую учинили над детьми, на несколько минут превращала меня в сестру милосердия.
Мне было тринадцать лет, когда меня первый раз повели в театр. Вынуждена признаться: из самых напыщенных и ходульных опер мне по вкусу наихудшие, те, что не идут на компромисс. В тот вечер давали "Тоску" (представляю, что вы подумали, но я запрещаю вам смеяться). Войдя в зал, я сразу оказалась в гуще жизни, настоящей жизни, той единственной, которою мне хотелось бы жить. В театре я люблю все: резкий запах духов, грозовой багрянец плюшевых драпировок, эту полутьму глубокой пещеры, отливающей перламутром, перегородчатой, пластинчатой, словно внутренность раковины или улья. Впрочем, в какой бы части театрального здания я ни находилась, хитросплетение коридоров, наклонные плоскости, лестницы — все наводит меня на мысль, что я проникла сюда через подземный ход: именно поэтому я здесь чувствую себя в безопасности, в надежном убежище. В пышной и торжественной обстановке, подобающей церкви, — правда, театр по сути и есть церковь, — светская музыка обретала для меня некое религиозное звучание, затрагивала все струны моего сердца, это были Любовь небесная и Любовь земная (поверьте, я не шучу), как их изображают на наивных картинах — мне хотелось разрыдаться, но я сидела не шелохнувшись, без слез, широко раскрыв глаза, словно пораженная ударом тока. В этой опере (к стыду своему, не знаю, где именно) есть отрывок, воссоздающий какую-то простодушную народную забаву, что-то вроде беззаботного деревенского праздника под ярким, сияющим солнцем, — но я настолько прониклась духом Рима, с его зноем и ароматами, его неумолимыми твердынями (позже мне приходилось видеть и гравюры Пиранези, и замок Святого Ангела, — но все это возникло в моем воображении еще тогда), его испепеляющим молниями небом, свидетелем величественных страстей, — что этот отрывок, светлый островок беспечности на вершине катастрофы, подействовал на меня сильнее, чем самая трагическая ария, буквально заставил содрогнуться. А последний акт стал потрясением: это была жизнь, поправшая смерть, жизнь по ту сторону могилы, песнь любви, торжествующей и после рокового залпа. Не стыжусь признаться: когда полицейские театральным жестом сняли шляпы у края бездны, куда только что бросилась героиня, этот гениальный образчик безвкусицы вызвал у меня слезы. Я была там, в самом сердце трагедии, вне жизни, вне себя. Это был дневной спектакль, в зимнее время: когда мы вышли из театра, уже стемнело, у меня звенело в ушах, я натыкалась на стены, как пьяная. Город с его огнями качался, заливаемый черным ливнем, улицы были точно прогалины, в которых застоялся душный красноватый туман, а надо всем торжествующе развевалось знамя смерти.
Я немножко посмеялся над Кристель, хотя меня растрогала ее исповедь, взволнованная и полная высокомерия. Можно ведь смеяться над человеком мягко и дружелюбно: такая насмешливость обычно свидетельствует о глубочайшей душевной близости, в которой не решаешься признаться, — и помогает избыть излишек симпатии.
Потом мы присели ненадолго отдохнуть во впадине между дюнами. В упоительном лунном свете песок поражал белизной, но уже был холоден, как снег. Прилив ослабевал, моря было почти не слышно. Невозможно представить себе более призрачный пейзаж: один его край терялся в морском просторе, другой — у мглистого горизонта, над пустошами, присыпанными мелкой жемчужной пылью. Кристель была задумчива, какая-то грустная мысль увлекла ее за собой. Она говорила обрывками фраз, с долгими паузами:
— Может быть, не стоит без конца твердить себе это — ведь высказывать мысли вслух все равно что выражать пожелание — но мне кажется, я обречена растратить жизнь впустую. Меня слишком мало занимает то, что не имеет для меня значения. Как если бы я в ярости отбрасывала ничто в ничто. Пусть уж потерянное время будет действительно потеряно. Пусть то, что лишено смысла, по крайней мере не принесет пользы. В этом у меня выражается благородство. Чего бы я только не отдала, чтобы заснуть и во сне проплыть над безотрадными пространствами, которые каждый живущий преодолевает с неотвязной мыслью о том, что в это мгновение он мог бы быть где-то еще.
Читать дальше