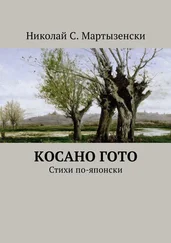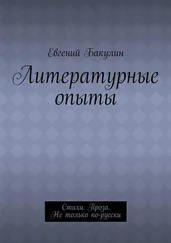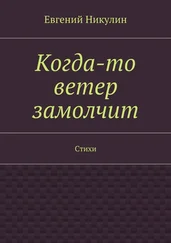Она пока молчала, но только потому, что он строго-настрого запретил изъясняться тут на иноземном наречии. Но как же чувствовалось, сколь сильно у нее чешется язычок! И не было никакой возможности достоверно и вразумительно ответить на ее вопросы. Откуда столь внезапные племянницы? откуда столь внезапная любовь? отчего пропажа машины оставила его столь равнодушным?.. Ее своевременным и бесследным исчезновением он мог бы быть обязан лишь ее внезапной кончине (после прибытия в Дулут, конечно), но, как назло, Леонида Леонидовна была бесконечно здорова, о чем свидетельствовали и ее розовые щеки, и по-юношески подвижные суставы, и даже отсутствие одышки, на которую она бы могла и расщедриться после ночного физического напряжения.
Наконец, за окнами мелькнул большой щит «Used Cars» [19], за которым Пикус, выждав некоторое время, попросил водителя остановиться. Оставив Леониду Леонидовну и девочек в придорожном кафе, Пикус пошел в магазин, откуда вскоре выехал на ржавоватом, но мягком и подвижном «кадиллаке» шестьдесят седьмого года. Внутри было кожано и просторно. Внутри было радио с никелированными ручками, которое на призыв откликнуться только откашлялось. Но, главное, внутри теперь были Роза и Лилия, которым наивно казалось, что эта машина много лучше предыдущей, которую, конечно же, не украли, а это их похититель претворял в жизнь какой-то свой странный приключенческий план.
Они чавкали на заднем сиденье жевательной резинкой. Мог ли какой-нибудь иной звук так радовать теперь ухо Пикуса? Со всей однозначностью можно ответить – конечно же, нет! Глупая и еще более глупая от того, что вокруг происходит что-то совсем неподвластное ей, Леонида Леонидовна попросила Пикуса, чтобы он перевел девочкам ее замечание, мол, не пристало молодым леди столь очевидно заниматься подобной вот ерундой, я имею в виду жевать с такой непозволительной громкостью. Пикус, скосившись на Леониду Леонидовну, сказал девочкам по-английски, что как это здорово, что теперь они есть у него, а он – у них и что теперь ничто не сможет их разлучить.
Леонида Леонидовна заподозрила неправильный перевод и по старой привычке вспучила губы, что лет тридцать назад, должно быть, шло ее лицу, придавая ему некоторую милую кукольность, о чем – помнилось ей – тогда же сказал один знакомый художник.
Художник был маринистом и все пытался изобразить в виде русалки ее самою. Как бишь звали его? Ах да, его звали Бруксом. Нет, никакого имени, просто Брукс. Если верить русской классической литературе, то все романы с художниками случаются обязательно летом и обязательно на подмосковных дачах.
Все так и было: было лето и была подмосковная дача. Местечко называлось Потапово, вечерний поезд приходил из Москвы в 6:05 и после минутного затишья вновь заглушал птиц и кузнечиков пневматическим пуф-ф-ф – это закрывались двери – и скрежетом – это состав отходил от дощатой платформы. Люд в их компании был все больше студенческий, из которых неприязнь вызывали лишь безымянные и озорные медики, привозившие в тряпицах из морга разрозненные части человеческих тел и пугавшие молодую Ленечку, что вот, дескать, они сошьют все это воедино и получат нового Франкенштейна. Зато остальные были милые, с очаровательно-задумчивыми глазами и стихами, что по тогдашней моде декламировались нараспев.
Нет, сначала Брукса не было. А были бессонные ночи после того, как начинающий актер катал ее по черному лаку заросшего пруда на лодке, скрип уключин которой вызывал умиление и сердечное закипание. Потом с выпускником юридического факультета у них была велосипедная прогулка, и так робко он вскрикнул, упав, когда белая штанина попала в цепь. И это тоже вызывало бессонную ночь. Оба признались ей в любви, и долгими размышлениями она истязала себя, чего больше ей хочется – духовного или материального. Потом был кто-то еще, чьи отличительные признаки теперь уж навечно стерлись ластиком памяти. Помнилось только, что он все подсовывал ей под окна большие букеты полевых цветов, которые она нюхала и смеялась, потому что желтая пыльца прилипала к ноздрям и щекотала их.
Нет-нет, Брукса все еще не было. Зато на соседней даче поселили, нет, не человека, а пока только лишь музыку – два вечера кряду были слышны осторожные – будто пальцы по клавишам ходили на цыпочках – звуки пианино. Кто-то сказал, что это студент консерватории приехал на каникулы, и Ленечка остро почувствовала, что так устала и от актерской выспренности, и от пересказа судебных прецедентов, и от глупых полевых цветов, заживо сгнивающих в вазе уже на второй день.
Читать дальше