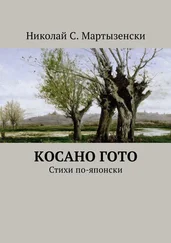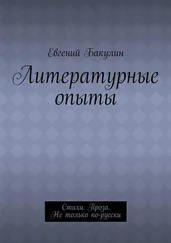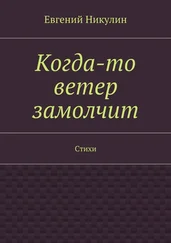– Я попрошу закрыть глаза и досчитать до десяти, – чувствуя необычайное воодушевление и даже вдохновение, воскликнул Пикус, а сам на цыпочках побежал к зеркалу, чтобы разлохматить волосы и пальцами вылепить из собственного лица требуемое выражение. Он был и сам поражен, когда увидел в зеркале свое отражение и поэтому храбро скомандовал девочкам отрывать глаза.
– Вот теперь я похож на д’Анджелло, вернее, на того д’Анджелло, который изображен в том журнале, что вы мне предъявили.
Несходство было поразительным и несомненным, но сестрам почему-то захотелось забыть и не думать о нем, и вовсе не из нежелания обижать их нового друга, а из-за детской еще надежды на настоящие чудеса. Тем более что от трубки Пикуса тихо, как на медленной карусели, кружилась голова, тем более что спускающееся солнце за окном было расколото надвое каким-то готическим шпилем, тем более что свежий предвечерний воздух стал затекать под ноги, тем более что за этот длинный день накопилась усталость, хотя нет, спать не хотелось, спать не хотелось, конечно, но границы предметов зыбились и теряли твердость своих очертаний, и голос Пикуса стал меркнуть, и слов было не разобрать, хотя оставался гул – это Пикус продолжал говорить, то вскакивая на нежно зыбящийся стул, у которого под тяжестью неторопливо изгибались ножки, то падая в мягкое кресло, которое тихо расползалось в ответ, словно было вылеплено из пастилы. Потом стало немного темнее, и это было даже хорошо, потому что глаза начали уставать; потом наступили сумерки, и это было лучше еще, потому что Пикус все говорил и говорил про какие-то вечные поиски, про какие-то параллельные миры, про каких-то двойников, но не плотских и биологических, но сакральных и вечных. И странное дело, чем дольше говорил Пикус, тем больше становился он похожим на д’Анджелло, который незаметно тоже подключился к беседе, сначала бессловесным тенеобразным присутствием, затем легким пошевеливанием, затем, с ловкой незаметностью слившись с Пикусом, уже его голосом говорил, что сестры будут главными героинями нового фильма, съемки которого не начинались только потому, что никак не могли найти вот именно их.
– Ну вот вы здесь, можно и начинать, – в заключение сказал Пикус голосом д’Анджелло. Или наоборот.
Наша жизнь – росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь – и все же…
Потом было утро. Потом было утро, которому предшествовал мертвый сон всех троих, и когда девочки – как всегда одновременно – проснулись, то, надо сказать, странновато им было видеть, что подле них, прямо на полу, с курительной трубкой, что была накрепко сжата прямоугольниками зубов, спал их вчерашний новый знакомый, некто – они вспомнили, хотя и с некоторым затруднением, его имя – господин Пикус. Не без оснований полагая, что случайно попали на настоящий гипнотический сеанс (подтверждением чему служило и то, что они, даже не успев раздеться, тем не менее успели уснуть), девочки испытывали определенные затруднения, какими же глазами теперь смотреть на Пикуса – как на волшебника и гипнотизера, как на сумасшедшего и самозванца или все-таки как на богатого мерзкого развратника.
Следовало успокоиться и во всем потихонечку разобраться, что уже само по себе было нелегко, так как Пикус тоже проснулся и с легкой сконфуженностью что-то говорил им. Стараясь не насторожить его, они, мило и скромно улыбаясь, скороговоркой согласились на завтрак (да-да, тосты, апельсиновый сок и кофе – все это просто замечательно…), а затем бочком проследовали в огромную ванную комнату, окно которой было прекрасной рамой для плоского облака, притаившегося снаружи. Пустив воду, они, нимало не стесняясь, подвергли друг дружку дотошному анатомическому осмотру, после которого огласили утешительные результаты – все было целехонько, все было по-прежнему.
Можно было бы перевести дух, но вдруг Эмма вывела пальчиком на запотевшем зеркале слово «фото», и Ю поняла, что Пикус вполне мог, воспользовавшись их беззащитным сном, раздеть их донага и водруженной на треногу камерой фотографировать их, чтобы потом продать карточки какому-нибудь гадкому журнальчику, который, отпущенный на волю за сколько там – двадцать пять центов? пятьдесят? доллар? – явил бы миру двух спящих обнаженных девочек, чьи бумажные тела, пахнущие и пачкающиеся типографской краской, стали бы нюхать, лизать и гладить гадкие незнакомые мужчины, распаляясь от удвоенного наслаждения, от жгучего сладострастного яда, который вдруг брызнет мутной росой. Эмма и Ю, уже покачиваясь от дурноты, представили, как гладкие розовые языки слижут их изображения с журнальной страницы, и поэтому надо было быстрее бежать к Пикусу, чтобы спросить, а по какому, собственно, праву, а откуда вдруг такие полномочия, чтобы… усыпить… обнажить… надругаться… И вот, обнявшись, они уже плакали, плакали так, как плакали прежде, как привыкли, чтобы не разбудить подружек по спальне и не привлекать внимания, а именно тихо, выпуская наружу лишь самое пронзительное отчаяние, которое целиком умещалось в единственный краткий и влажный всхлип.
Читать дальше