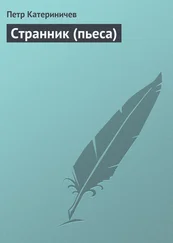– И очень попрошу тебя, без фокусов.
Дарья Александровна изволят почивать в соседней комнате, и Кеша мой слабоумный приставлен к ней со строгим наставлением: коли какое неспокойствие начнется – резать ножиком Дарью ту Александровну, аки овцу. Принцесса нынче, понятно, в цене. Но и без нее можно обойтись, коли припрет. Ты понял?
– Да. Я понял.
– Ну что? Помянем душу раба грешного Александра свет Петровича?
– Он уже умер?
– Сгорел. На работе. Белым таким пламенем. – Скулы Корнилова закаменели, потом расслабились, закончил он даже дурашливо:
– Зрелище было красивое.
– Смерть не бывает красивой.
– Что из того? Мне тут недавно афоризм пришел в голову... По поводу, так сказать... Чужую смерть стоит приукрашивать, чтобы когда-нибудь не испугаться своей. – Корнилов выдохнул и выпростал свой коньяк тремя глотками, как воду.
Присел, откинулся в кресле, закурил, оплыл расслабленно, наблюдая за прихотливыми завитками табачного дыма.
Был он сейчас далеко: снег кокаина словно припорошил сущее кристалликами, придавая всему иные формы и иную ясность, а тепло алкоголя ворвалось в этот холодный, стройный мир, делая его вязким, придавая привычным вещам и понятиям вычурные позы, рисуя рискованные, причудливые, гротескные, полные пугающих полунамеков картины...
Пистолет лежал на столе ненужным блестящим предметом. Он приковывал внимание. Данилов бросил взгляд – нет, не дотянуться. Остается ждать своего часа.
Олег взял стакан, посмотрел на просвет: в полутьме коньяк казался почти черным, лишь изредка искрящийся свет вспыхивал в глубине жидкости, напоминая о солнце, когда-то давно напитавшем виноградные гроздья далекой страны, и о виноделах, превративших свет в напиток, способный дарить тепло и забвение.
– Когда умирает какая-нибудь знаменитость, богатый или даже великий человек, большинство «простых людей» чувствуют тайную радость и видят в этом даже высшую справедливость... Да, им недодали – почестей, славы, наград, но вот Господь проявил себя – они-то живы, а тот, блестящий, осыпанный наградами Фортуны, любовью женщин – мертв! Что может быть сладостней этого?
– То-то я погляжу, ты вырядился эдаким фертом, умник: костюм, белая сорочка, галстук, да и ходики, поди, от «Piaget»?
– Я на работе.
– Да иди ты? Налей еще выпить.
Корнилов угрюмо кивнул, пододвинул Данилову бутылку, стакан. Потянулся, хрустнув ревматичными суставчиками, и – пригорюнился прямо на глазах, оплыл.
– Странно, – произнес он хрипло. – Почему я сижу здесь с тобой? Я достиг всего, чего хотел, но мне муторно до жуткой тоски... А ты... Мне вроде бы надо велеть пристрелить тебя и убираться восвояси. И – жить дальше. А я не знаю как.
Может, ты подскажешь, герой?
– А стоит ли тебе жить дальше, Корнилов? – Данилов плеснул в стакан, сделал глоток. Нет, неудобно. Не достать. Даже если бросить бутылку в нос умнику. Да и грохот ни к чему: пес его знает, этого Кешу. Рисковать Дашей нельзя.
– Жить дальше... Вопрос риторический. Жизнь мне не то чтобы в тягость, но и милой я ее не назову. Но сердце вещует: если меня не будет, то не будет и этого мира – с цветочками, девками, долларами, завистью, склокой, похмельем, вожделением, страстью... Совсем не будет. Ни-че-ro. А я хочу послюнявить ломоть этой жизнишки теперь, хороший ломоть, и получить удовольствие ото всего: от денег, от баб, от кокаина. А сейчас вот – от беседы с тобой.
– Тебе не приходило в голову, умник, что ты вызываешь брезгливость?
Лицо Корнилова обиженно дернулось, но он быстро справился с собой.
– Ты мне любопытен, Данилов. Ведь догадываешься, что унесут тебя отсюда, скорее всего, в мешке, а сидишь, рассуждаешь, думаешь... О чем? Ведь даже это «скорее всего» я кинул тебе подачкой, а ты и в лице не поменялся. А ведь ты не стоик, Данилов. Надеешься выкрутиться?
– Пока живу – надеюсь. Зачем-то ты ведь беседуешь со мною, умник.
– Зачем-то...!
– Тебе плохо жилось под Папой Рамзесом?
– Как тебе объяснить... Это не было предательством. Жить «под» – всегда скверно. А Рамзес был тяжел, как сфинкс. Да! Он был бессердечен, лукав и жесток... Но я... Я его даже по-своему любил. И – ненавидел. И – снова любил.
Теперь, когда его не стало, я будто осиротел. – На глазах Корнилова показались слезы, он прикрыл лицо руками. – Мир опасен и несносен. С Головиным я чувствовал себя как за каменной стеной... Тюрьмы. Да, я завидовал ему, мучительно завидовал, но я давно привык, притерпелся к этой зависти, научился с ней жить... Да, он гений, но гении приносят только неспокойствие в этот мир. К тому же – они беспощадны. Ты даже не представляешь себе, сколько людей вокруг гробит любая неординарная, выдающаяся личность! Из самых близких! И ведь не по злобе гробит – по идее, вот что противнее всего! Нет, даже не по идее! Его гениальность застит ему мир, ничего он не видит в нем или видит таким, каким желает видеть!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу