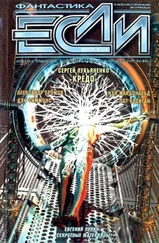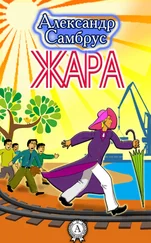Однажды дикая мысль посетила его: «Неужели я в Бога не верю? Ведь, если бы верил, я бы стремился к Нему, а я боюсь. Я ведь не суда боюсь, я боюсь, что не будет никакого суда». И, когда он так подумал, вселенский холод, не тот, который чувствуешь, когда суёшь руку в холодильник, а тот, в котором отсутствует тепло, коснулся умирающего отца Василия. И некуда ему, прикованному к кровати, было убежать. Тогда он стал скороговоркой повторять: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Через пару минут уже повторял размереннее: «Господи, помилуй мя, грешнаго», потом стал молиться ещё спокойнее: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».
«Что это было? — думал отец Василий и сам себе отвечал: — Дыхание ада. Но, если есть ад, тогда есть и рай. Тогда чего же так страшно? Неужели оттого, что я просил, а Он не услышал? Нет, как Он мог не услышать, просто Его воля в другом. А в чём? Господи, как узнать волю Твою? А если Он откроет… А я не смогу понести… Не смогу, потому что слаб и немощен… Я всё время мечтал о тихой и мирной жизни. И в храме всегда на службе старательно возвышал голос о мирной кончине. Да и катилось всё к этому: под крылом отца тихо-мирно взошёл на амвон, потом так же тихо-мирно служил, крестил, венчал, отпевал… когда звали. Если не звали, то и не напрашивался… А вот теперь так страшно… А может, страшно оставлять жену и детей, которые, конечно, переживают и будут ещё переживать. Так ведь это временно. Дети пристроены, с женой пожили… Да и сами понимать должны. Поплачут, поплачут и перестанут. А люди? Люди и не заметят, пришлют другого священника, который будет и моложе, и деятельнее… Бог с ним, с этими миром».
И ему уже хотелось уйти отсюда, пусть даже в страшащую неизвестность, но пусть скорее это перестанет быть неизвестностью, в которую тянуло, как тянет в пропасть.
Но почему обязательно в пропасть?
Ему всё чаще вспоминалось, как страдал, уходя к Богу, его отец — протоиерей Георгий. Слёзы постоянно текли из его ослепших глаз и он деревенеющим языком всё корил себя: «Как же я тогда, грешный, крестом-то по двери… Святым крестом! Прости, Господи, не вмени, в помрачении был, в помрачении».
Отца Василия тогда поразили не столько постоянные слёзы умирающего человека, это даже являлось для него признаком чуть ли не святости. Такой плач Бог даёт не каждому, и он радовался, что отец так угодил Ему, а поражало, что отец Георгий, проживший такую трудную, полную страданий и мученичества жизнь (голод после революции, выламывание крепкого крестьянского хозяйства, каторжный труд на поселении после раскулачивания, война, послевоенная разруха, уход в церковь, когда начались хрущёвские гонения, служение при богоборческой власти), кается за поступок, который считался одним из подвигов отца Георгия, прочно вошёл в историю села и с гордостью пересказывался приезжим.
В начале девяностых в одно тихое июльское утро на селе появились адвентисты какого-то дня, купили дом в самом центре рядом с администрацией и собирались открыть молельню. Отец Георгий, произнеся проповедь, где он, в основном, рассказывал, как защищал Отечество от немца, сошёл с амвона и двинулся в центр села. Прихожане пошли за ним, по дороге всё более и более прирастая людьми, так что к дому адвентистов подходила уже внушительная толпа, а впереди отец Георгий — брови сдвинуты, взгляд решительный, борода развевается, крест в руке сверкает, словно молния, в общем, Победоносец, да и только. Адвентисты забаррикадировались и не высовывались, пренебрегая, как поняла это толпа, общественным мнением. Отец Георгий поначалу стучал в дверь вежливо, но там, видимо, решили держать осаду до конца, как турки в Измаиле. Тогда батюшка, осерчав, стукнул крестом по двери и та неожиданно раскрылась. Настолько неожиданно, что толпа притихла. И отец Георгий шагнул внутрь. Не было его минут пятнадцать. Что там происходило, никто не знает, но вышел отец Георгий такой же грозный.
— Всё, — объявил он. — По домам.
— А эти-то как же? — спросила какая-то тётка.
— По домам, — повторил отец Георгий.
— Чё, не будем мочить? — спросили ещё огорчённо. — Обещали же…
— Я сказал: марш по домам, — рявкнул батюшка, поднял крест и все шарахнулись от него, словно он не крест поднял, а гранату.
Адвентистов никто больше в селе не видел. Не видели даже, как они исчезли, собственно, никто не видел, как они и появились в селе. Словно дух какой-то: материализовался и растаял, яко дым.
«Отчего отцу были дарованы такие слёзы, а мне — нет? — думал умирающий священник. — Страха Божия нет во мне… Привык, что всё хорошо и гладко: ни голода, ни холода, ни войн — всё какое-то обыденное тягло. Но ведь вот отец, он на адвентистов пошёл в мирное время. Скорбел потом, но какие слёзы дал Господь! А не делай отец тех поступков, были бы такие слёзы?»
Читать дальше