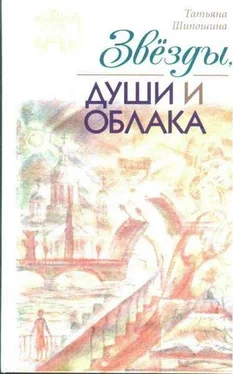Уснула — и проснулась, как будто ночи и не было.
— Анька, вставай, умывать пора! — Люба уже здесь, как будто и не было ничего.
Трудно Аньке, но она поднимается и идёт. Странное дело — мальчишки смеются чему-то своему, как ни в чём не бывало. Что поделаешь, у каждого своя жизнь. Их не выгоняют и не обвиняют в предательстве.
Анька подходит к Джему. Джем повернулся на бок, отодвинув рукой таз.
— Нэ надо, — сказал он. — Вот, возьми, это тебэ.
Джем открыл тумбочку и вытащил оттуда две завёрнутые в тетрадный листок чурчхелы. Эти виноградные палочки прислали ему в посылке уже давно, а он всё не ел их, сохраняя, как память о доме. И вот теперь он решил отдать их Аньке, понимая, как ей плохо сейчас.
— Ты ешь, — сказал он. — Нэ грусти. Ты правильно сдэлала.
— Спасибо, Джем! — сказала Анька. — Что — правильно, а что — не правильно. А тебе — спасибо! Выгоняют нас…
— Может, нэ выгонят?
— Выгонят. Будешь вспоминать меня?
— Я тэбя нэ забуду, — Джем не понял, как у него вылетели эти слова. — «Я тебя не забуду», — подумал он ещё раз, про себя.
Анька всех умыла, пошла в ванную, оставила таз и чайник и пошла вниз, на улицу, прямо ко входу в санаторий. Она пошла караулить Ярославцева, чтобы увидеть его до того, как он пойдёт к главврачу. Она успела вовремя.
Невысокий, худенький Ярославцев, с портфелем в руках, пересёк границу санатория ровно без пятнадцати девять. Без халата и шапочки он выглядел совсем юным, почти как мальчишка из десятого класса.
— Опять ты? — сказал Ярославцев.
— Евгений Петрович! Пожалуйста! Я прошу вас… последний раз. Пожалуйста, выгоните меня и оставьте всех! Я не хочу, чтобы людей выгоняли из-за меня! Из-за того, что я рассказала. А за Нинку мы все просим, весь наш класс! Если выгоните её, она пропадёт. Пожалуйста!
Иди отсюда, — сказал Ярославцев. Лицо его было мрачноватым, усталым и возражений не допускало. — Иди отсюда.
Анька села на бордюр, окружавший клумбу, вытянула ноги. Потом достала из кармана чурчхелы и начала их жевать, ещё раз складывая в сердце всё происшедшее.
Думала она примерно так:
«Я думала, что если я расскажу про нас, то Ярославцев оставит Нинку в санатории.
Это была моя правда. Моя правда.
А Ярославцев решил нас выгнать — это его правда.
Стёпка был согласен признаться, но считал это бесполезным — это его правда.
А Наташка считала, что признаваться не надо — это её правда.
И у Нинки — правда своя. Любой ценой остаться, что-ли.
А я решила, что моя правда — самая лучшая, самая главная. Главнее их правды.
Я всё и сделала так, по своей тогдашней правде. По своей правде сделала, а теперь — отвечаю за неё. И каждый расплачивается за свою правду, каждый отвечает, только каждый — по-разному.
Так сколько же правд существует, и какая правда — самая правильная?
Как хорошо, ясно всё было в учебнике: выполнить упражнение по образцу! Напишешь по образцу, и всё правильно. А если ошибся — возьми, перепиши! Или листик вырви из тетради.
А в жизни всё совсем не так. Когда две правды было, я заболела. А сейчас мне что делать, что? Как мне быть, когда сколько людей, столько и правд?
Где этот образец, где этот образ самой правильной правды, по которому мне теперь жить?»
Когда нам некого спросить, мы смотрим в небо.
Анька подняла голову и спросила бездонную синь:
— Где настоящая, единственная правда? Где тот образец, где тот образ, по которому мне жить?
Бездонная синь не поколебалась. Она была всё так же бездонна и величественна. Бездонная синь молчала.
Анька прислушалась.
Было слышно, как шумит ветер в гибких, светло-зелёных ветвях тополей.
— Ж-ж-ж! — сердито прожужжал ей на ухо майский жук.
— Жу-жу-жу! — подпела ему пчела.
— Цвик! Цвик! — вставил своё словечко кузнечик.
А простоватая белая бабочка, пролетая по своим делам, помахала Аньке крылышками.
— Потерпи немного, экая ты быстрая! — как бы говорили они. — Хочешь всё сразу! Будет тебе ответ, будет — в положенный срок…
Нет, в жизни всё иначе, чем в учебнике. Не вырвешь листок, не перепишешь начисто. Придётся терпеть и отвечать зато, что сделано. Придётся расплачиваться.
Терпковатый вкус чурчхелы, приправленный солёными слезами, был похож на вкус текущей жизни. Сладость смешалась с солью, а орешки были тверды, но их можно было разгрызть, можно, можно.
Впервые подумала Анька о том, что ждёт её дома. Ничего хорошего. Заедят нотациями — не за то, что выгнали, а за то, что бегала в самоволку, за то, что правила нарушала. Тоже правда — нарушала. А торт на день рождения? А пир с кильками? Что главнее?
Читать дальше