Как всегда, «они все еще сидели», внимательные к тому, что сейчас будет сказано. На столе стояла зажженная лампа и самовар для тех, кто захочет чаю.
Чувствуя невозможность говорить о том, чем был этот пройденный путь, Рафаэль открыл свой экземпляр «Дяди Вани» и принялся читать, как на первой репетиции.
« Соня. Давно, давно уже мы не сидели вместе за этим столом».
Рафаэль пропустил несколько строчек.
« Войницкий( Соне, проведя рукой по ее волосам ). Дитя мое, как мне тяжело! О, если б ты знала, как мне тяжело!..
Соня. Что же делать, надо жить!.. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем…»
Рафаэль пропустил еще две строчки.
«…и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную».
— Жизнь светлую, теплую, радостную, чистую, — повторил Рафаэль, — то же самое говорит Нина в «Чайке» Косте, который скоро застрелится. И, как в «Дяде Ване», — тоже на последней странице текста.
Рафаэль поднял глаза к лицам, на которых читалось терпение. Вспоминая свои слова, сказанные в тот первый день о том, что каждая роль питается всеми предшествующими, он рассказал, как все последние вечера перечитывал пьесы Чехова: вот они, перед ним, с торчащими из них бумажными ленточками-закладками. И как, если бы он мог объясняться только чужими словами, переходя от «Чайки» к «Дяде Ване», от «Дяди Вани» к тому, что происходит в «Трех сестрах», он множил примеры, почти нагромождал их, силясь соединить куски жизни, помещенные то тут, то там. Потому что — говорил он — в каждой пьесе есть отзвуки не только того, что уже написано, но и того, что будет написано позже:
— Вот Маша в первом действии «Трех сестер»: «Представьте, я уже начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить». А вот Астров в «Дяде Ване»: «Те, кто будет жить через сто, двести лет, и для кого мы сегодня прокладываем путь, подумают ли они о нас?» И Ольга, снова в «Трех сестрах», но уже в самом конце: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было…»
Рафаэль указал на лампу на столе:
— Вот этот свет будет освещать Соню и дядю Ваню, когда они наконец возьмутся зa свою работу. «Работать, работать…» — говорит Войницкий, как потом Чехов заставит сказать Ирину в «Трех сестрах»: «Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать…»
Опираясь в своих доводах на тексты, Рафааль особенно настаивал на идее рассеяния, упорно присутствующей в конце каждой пьесы: «Уехали», — говорит старый лакей Фирс в «Вишневом саде», «Уехали», — говорит Астров в «Дяде Ване», и Марина: «Уехали», и Соня: «Уехали», и Мария Васильевна: «Уехали», и на следующей странице: «Уехал», — повторяют Марина и Соня.
«Мы останемся одни, чтобы снова начать нашу жизнь, — словно в ответ говорит Маша в „Трех сестрах“. — Надо жить… Надо жить…»
А Ирина: «Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания… а пока надо жить…»
В чередование цитат Рафаэль добавил еще четыре «Если бы знать!» Ольги и шесть «Мы отдохнем!» Сони, но все уже поняли, что не дает ему остановиться.
— Твоя работа, — сказала Лотта, — не в том, чтобы открывать талант в актерах, а чтобы пробуждать в них самих себя.
А потом они играли так, как не играли ни разу прежде. Когда после последнего действия машинисты сцены опустили и снова подняли занавес, актеры, взявшись за руки, подошли к краю сцены, чтобы поклониться залу, который в тот день, по просьбе Рафаэля, был пуст. Но им всем казалось, будто до них доносится трепещущее эхо прерванного дыхания.
Назавтра, накануне премьеры, Рафаэль собрал актеров у себя, как собирают семью на день рождения. Было вино и угощение, и они пришли, не совсем понимая, как сложится этот вечер.
Через открытые окна с площадки на бульваре доносились крики игроков в шары, особенно возбужденные, когда кому-то удавалось выиграть очередное очко. Дени — по пьесе дядя Ваня — некоторое время следил за игрой. А потом, поскольку бульвар носил имя Бланки, спросил Рафаэля, знает ли тот, что во время Парижской коммуны на Бютт-о-Кай, расположенном в двух шагах, шли кровопролитные бои?
Рафаэль знал. Он даже уточнил, что Лео Френкель, почти его однофамилец, но с «е» вместо «а», вероятно указывающим на его венгерское происхождение, был в то время депутатом XIII округа, в котором расположен бульвар Огюста Бланки.
Читать дальше
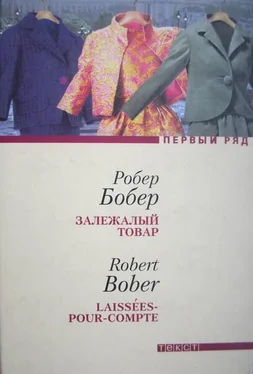

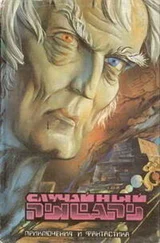
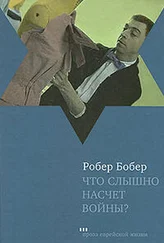
![Робер Мерль - БСФ. Том 17. Робер Мерль [«Разумное животное»]](/books/424176/rober-merl-bsf-tom-17-rober-merl-razumnoe-zhi-thumb.webp)




