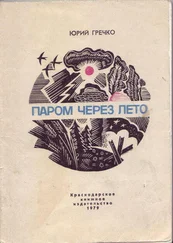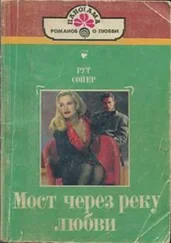Тут я признаюсь: ходил к Марине. Звонил, стучался. Дверь не отпирали. Думал, на даче. Соседи на даче. Да и она сама. Кто же по доброй воле в такую погоду станет маяться в городе. Она говорила, что днями свободна, занята вечером, да и то не всегда. Так что — на даче. Ждал. Купался в ванной по три раза на день и читал «Записки от скуки». Не торопился в студию. Срок истекал струйкой песка. Мальчиков я перебил и рукопись в папку убрал. Завязал тесемки. Отмылся. Благо, хоть они мне не снились.
Снилось другое.
И вот, наконец, когда я собрался отнести продукт свой, стало мне ясно: несколько дней отдыха после завершения черного дела, пока я уклонялся от контактов по телефону, вымотали меня страшней, чем дни работы. Совершенно больной, ослабев, с головокружением и болью в висках, пыльными проспектами августа плелся я к дому на улице Чапыгина. Сомневался: что же я натворил, написал?
Предыдущей ночью, лежа ничком, понял я: не сойдет мне все это. Аукнется — надо ждать. Я не боялся, но и не хотел расплаты. Все-таки прежде многие, кого я любил, уважали меня, считали порядочным человеком. А теперь? Вынужден был я творить противоестественные дела. Только вот, кем принужден, оставалось загадкой. Противно было. Автора — трусливого насильника — я презирал: подонок инкогнито. Узнавал в себе его незабвенные черты, искаженные до карикатуры, до гримасы. Мерещились они, когда ночью лежал я, уткнувшись незакрытыми глазами в подушку. Не в силах был спать. Или встать над собой. Или забыться.
Лучше бы на набережной речки Карповки зарезал меня трамвай, пыльный, красный, с дребезжащими стеклами. Я его не заметил. Но остановили трамвай. Говорят, люди есть, что и не горят, и не тонут, и не случается с ними ничего дурного, так они сами дурны и безобразны.
Лучше бы схоронил меня Алик-приятель. Нет же, сука такая, даже на похороны не пришел. Некогда ему. Конечно, я пойму: они с Надей куда-то как раз собирались. Накладка. Да и опять же — жара. Сам не пошел бы, тем более что на собственные. Неподходящая стояла погода, имперский торжественный август удивлял царственной плотью. Представляю, как в гробу я бы провонял.
Умри я у дверей телецентра, стало бы это нарушением общественной нормы, — не оберешься упреков. Что же делать?
Не смог я войти. Телеангелы помешали. Значит, было провидение, оно не допустило жуткой участи стать оэкраненным. Значит, все-таки предназначен я для чего-то не столь низменного.
Автор сделал меня настоящим писателем: пьющим, страдающим, с трещиной мира сквозь сердце, мерзавцем, одиночкой, изгоем, ласковым псом, лижет который нежную руку — все равно чью, лишь бы нежную. Лижет так, что забыть невозможно. Помнит, тоскует рука. Бедные те, кому руку лизнет этот пес. Но тоскует и пес.
Я возвращался домой, мучительно прикидывая: как денег добыть, чтобы вернуть аванс телевидению. Срок подачи рукописи, установленный договором, истек. Телефон надрывался. Я не брал трубку. Думал: обломил я им кайф! Но теперь, после финта со сценарием, вряд ли где мне дадут заработать. Накрылась халтура! Ремешок затягивай — не поможет: зубы на полку. К кормушке не подпустят. Где же средства достать, чтобы жить? За то, что дышу, мне правительство денег не платит.
Можно занять у миллионера, стрельнуть пару тысяч — хватило бы на год. Однако я знал: выпить с ним запросто, гульнуть, но в долг он давать не любил, — просьбы, разговоры о деньгах его раздражали. Сам отвалить мог много, если решение вызрело в мозгу, как опухоль. Но просить? Лучше было его не просить.
Один на один с телефоном я извелся. Монолога его не в силах был вынести. Надломилось во мне. Невеселое удовольствие, переваривать известие о собственной смерти. Поначалу фантастично звучит, отрешенно, как информация из утренних газет. Но затем… Полноте, так ли уж фантасмагорично было известие? Разве жизнью называлось то, чем я жил?
Сны. Я рассказал их подробно, но связать не умел разрозненные обрывки. Насобирал эпизоды — черт знает что, — а концы торчат. Не ладилось с логикой. От известия о собственной смерти связь уводила ко снам. Я ее чувствовал. Но не сходилось: потолок и река, что общего? Откуда столько крови? На руках моих кровь… Приснилось? Все это значить могло: что-то родное утратил я, потерял. Что-то очень родное — много крови.
Я не помнил, с чего началось, как устроили гонку на пьяных машинах. Знаю только, завелся по-страшному. Лез из кожи, кричал: обходи! Азарт заразителен. Трезвым лучше не вмешиваться. Ехала волшебная девочка в такси. Что-то случилось с машиной.
Читать дальше