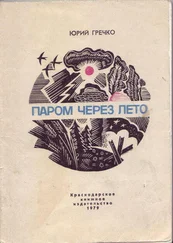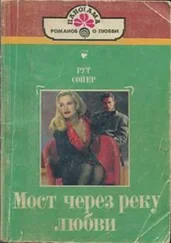Глаза у старика были красные, он не выспался. Он давно уже не мог выспаться как следует. По ночам кашель будил его. И никто не мог ему помочь. Черный футляр от саксофона напоминал маленький гроб в мансарде, где половину подоконника занимал «Philips», а ноты были разложены на стульях. Врачи посылали отца на курорт. Но он и слышать не хотел о том, чтобы продать этот саксофон и купить дудку попроще. А деньги, что зарабатывал, в его карманах не застревали.
Он и сейчас покашливал, но не прекращал репетиции.
— Быть в форме, сынок, — моя обязанность.
К обязанностям, если касалось работы, он теперь относился исправно. Остальная жизнь по-прежнему катилась кувырком.
— А ведь мы с тобой слушали Курта лет семнадцать назад. Я его не забыл. Хороший музыкант.
Только… бухгалтер, — он задумался. — Немцы эти или японцы слишком правильно играют. Не концерт, а финансовый отчет… А вот штатники! Помнишь, на заключительном концерте у Эллингтона его ребята накирялись? Какой был джаз! После Дюка можно и умереть спокойно… Все-таки джазисты — босяки.
— Пойдем, послушаем, — сказал я и выложил билеты на стол.
— Конечно, пойдем. Спасибо… И места хорошие. Вообще правильно, что зашел, билетики занес. Навестил папу.
— Не надоело ломаться? Мы оба подождали.
Он притушил сигарету о край блюдца.
— Па, скажи: тебе одиноко? Хоть иногда тебе бывает одиноко?
— Нет, — сказал он чуть поспешно. — Эта проблема меня не занимает. И говорить мы об этом не будем.
— Временами прямо жутко становится, — признался я. — Но, по-настоящему, никто мне не нужен. Почему одному лучше? Ведь правда, лучше?
— Ты не один. И я не один… Пойми, артист, с самого начала было двое, а потом появилась мама, — стало трое. Ты и Дима — четверо. Я дарил твоей матери блюзы, а она мне дарила вас. Уже потом с ней случилось неладное — захотела жить, как все… А я не знаю, как все живут! Я всю жизнь играл в кабаках, и, ты знаешь, — другая жизнь не по мне.
Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал:
— Что самое ценное в людях?..
— …?
— Неизменность.
— Мама всего лишь женщина.
— Что же с ней стряслось, с этой женщиной. Какая муха ее укусила?
— А ты не хочешь вспомнить, как это началось?
— Что?
— Гонка за деньгой, халтура, южные гастроли, юбки… Футбол.
— Есть вещи, в которых не признаются.
— Не настаиваю.
— Хочешь сказать — я тоже купился?
— Ты-то ушел. Но какой ценой!
— Она начала ревновать: музыку стала называть службой. Говорила: эта твоя работа…
— Она любила тебя. Отец кивнул.
— Как можно одновременно?
— Можно. Все можно… Я ее сам и сгубил.
Перекур кончился. Музыканты рассаживались в кружок. Отца никто не окликал.
— Несправедливый у тебя отец, — сказал он спокойно.
— Брось ты, па.
— И что тебе вздумалось копаться в таких вещах? — он покосился на меня. — Ты это брось — о живых людях писать. Послушай лучше, как мы сыграем.
Я хотел спросить его. Я не успел.
Кто-то сказал: «Играем блюз». Я поднял голову, отец уже занял свое место, он взял инструмент. Он думал о своем. А может, и не думал, я не знаю, как это назвать. Я увидел его глаза: такие чистые — в них не было грусти. Оркестр играл «Блюз жестяных крыш». И в его глазах не было ничего, кроме музыки проливного дождя.
Мост через Лету
практика прозы
В бессоннице не было ни будущего, ни прошлого — мучительное желание заснуть, душная подушка и пугающий скрип матраца, когда ворочаешься. Бесполезно искать удобную позу: клубком, на боку, разметав руки, — ее нет. Ничего нет, кроме желания забыться. Но уснуть можно было, только забыв о желании.
Перед рассветом мне это удавалось.
Утром не хотелось вставать. Часами я лежал на постели, легко голодный. А когда подымался, глаза оставались сонными. Врожденная лень получала еще одного союзника. Уверенность, что сегодня опять ничего толкового не сделаю, крепла с утра, и к вечеру мысли о поражении добивали меня. На ночь глядя, устраиваясь на диване с книжкой, чтобы свет лампы падал удобно, я вдруг вспоминал о бессоннице, и страх комкал желание читать. Предчувствие, что многое придется менять в этой жизни, — дальше так продолжаться не могло, — обесценивало предварительные решения. А чувство бессилия, сознание невозможности встать над собой (просто взять себя в руки и встать, прямо сейчас) замутняло ум. И смятения этого хватало до утра, пока я, наконец, не забывался перед рассветом.
Дважды я ходил домой к девушке, которую встретил накануне. Мы и знакомы-то были едва. День, даже меньше: вечер, ночь провели в обществе случайных людей. Но эта короткая наша близость — именно она и стала причиной грустных происшествий, предопределила то, что стряслось впоследствии.
Читать дальше